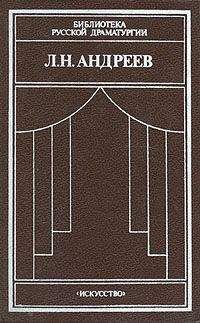отличным Лорензаччио» 5,— писал московский журнал. Но как
поблекла эта флорентийская история теперь, замечает автор, рас¬
суждавший о бренности земного. О, Tempi passati! О, прошлое,
которое не вернешь! Иными словами, овощ этот не по нынешним,
серьезным временам...
Московская рецензия при всей ее недвусмысленности была
вежливая, с любезностями и расшаркиванием. А в Петрограде
в начале того же 1918 года, куда Орленев повез старый репер¬
туар, Кугель в своем доживавшем последние месяцы журнале
обругал его, не выбирая слов. Он писал, что много лет не видел
Орленева и что время не пошло ему на пользу: не утеряв своего
таланта, он «стал рабом своей интонации, своего придыхания,
своей, сказал бы я, гримасы». Кугель был придирчив, и от него
здорово попало гастролеру и его незадачливой труппе (впрочем,
ото не помешало ему спустя десять лет написать: «Орленев но¬
сит звание народного артиста, и редко кому так впору прихо¬
дится этот титул»). Но и независимо от хулы критики у самого
Орленева не было никакой уверенности в своем репертуаре
в свете великих перемен, которые произошли в эти месяцы
в жизни России.
«Пишу тебе коротенькие записочки...— читаем мы в одном
из его писем к Шурочке.— Второго февраля первый спектакль,
и я нахожусь в такой нервной лихорадке, что не приведи
бог. У меня натура очень сомневающегося в себе человека. Вре¬
менами большой подъем и великое вдохновение, а иногда такое
настроение, что жизни не рад. Так у меня всю жизнь было, так,
вероятно, и в могилу сойду!» Луначарский в предисловии к ме¬
муарам Орленева пишет о его очаровании свободного художника,
которое привлекало к нему «лучших людей его времени» 6. Но при¬
родный артистизм Павла Николаевича нельзя назвать беспечным;
напротив, характер у него при всей легкости реакций был бес¬
покойный, говоря словом Гоголя, огорченный, то есть озабочен¬
ный, неравнодушный. Неуспех «Лорензаччио» заставил его глу¬
боко задуматься: где его место в меняющемся мире, и есть ли для
него это место?
Он был так связан со своим временем, с его болью и его
песнью, что не мог, не осмотревшись, не задумавшись, из одной
эпохи русской жизни рывком шагнуть в другую. В сущности, его
мучил тот же вопрос, что и Станиславского: в буре великой ре¬
волюционной ломки старого, классового общества что станет с от¬
дельным человеком самим по себе, сохранит ли он свою цен¬
ность? Орленеву не посчастливилось, в тот острый переходный
момент он не нашел никого, кто бы мог рассеять его сомнения.
Чисто внешние обстоятельства тоже ему не благоприятствовали.
В одном из писем к жене он пишет: «Относительно дальнейшего
полная неразбериха, ничего выяснить невозможно... Одно ясно:
«гастролеры» теперь ненужны... И мне будет нелегко где-нибудь
пристроиться». В эти месяцы он подолгу живет в Одинцове, мало
с кем общается, пытается даже разводить уток и оказывается
совершенно неспособным к хозяйственным занятиям, опять обза¬
водится граммофоном и собирает новую коллекцию пластинок,
покупает книги и много читает без разбора. В каком-то ста¬
ром журнале он находит анекдот о Гаррике, который будто бы
с таким чувством декламировал азбуку, что публика рыдала. Он
вспоминает, как Мамонт Дальский говорил ему нечто похожее
про адресную книгу, которую он берется прочесть под аплодис¬
менты зала. Может быть, это и есть вершина актерской техники!
«Но я на такое не способен,— признается Орленев.— Мне обяза¬
тельно нужен смысл и страдание!»
Долго прожить без театра он не может и замечает в одном из
писем, что, «сидя на печке дома, можно дойти до крайности».
И, когда в декабре 1918 года его приглашают на гастроли в Коз¬
лов, он, не диктуя условий, соглашается и пишет жене: «Я так
стосковался по работе, что с удовольствием потружусь». Какие-
то администраторы в провинции подозрительно относятся к га¬
стролерству как к форме непозволительного неравенства в твор¬
честве. Но публика не изменила к нему отношения. И он ее не
потешает, не читает ей азбуку или справочные книги. В письме
к жене от 1 января 1919 года он сообщает, что завтра играет
«своего блудного сына Митю Карамазова», играет в первый раз
после долгих лет перерыва. «Очень, очень волнуюсь. На репети¬
циях все выходит глубже, чем прежде, но что будет на спек¬
такле».
А из следующего письма Орленева, помеченного 7 января, мы
узнаем, что Карамазова он сыграл «очень хорошо... но ак¬
триса. .. Это ужас что такое, нет, играть невозможно с чужими,
не сыгравшимися в мой тон. Это меня всю жизнь мучило». На
дурных партнеров он жаловался и пятнадцать лет назад. А До¬
стоевский? Публика принимает его хорошо, только кто знает по¬
чему: то ли потому, что она живет еще по инерции прошлым, то
ли потому, что для искусства, если оно подымается до уровня
Достоевского, нет границ во времени.
Он готов в этом усомниться: на его памяти сменилось не¬
сколько эпох в театре, он застал еще эпоху Островского, потом
пришел Чехов, теперь Чехова не играют... У каждого времени
свои песни. Какое теперь время и какие теперь песни? Кто по¬
может ему в этом разобраться? Одни ставят революционные
агитки и тащат митинг на сцену, другие экспериментируют в сту¬
диях, третьи постыдно халтурят и берут гонорар крупчаткой, чет¬
вертые смотрят на Запад и едут в эмиграцию. Анархист Мамонт
Дальский незадолго до смерти звал его к себе в сподвижники.
Орленев посмеивался, отшучивался и пока что вернулся к гастро¬
лерству, не пугаясь все обострявшихся тягот быта. Репертуар
у него старый, хотя его интересуют такие пьесы, как «Дантон»,
и он по-прежнему дорожит в искусстве красотой как категорией
бессмертного человеческого духа и добром как категорией дей-
ствия, необходимого, как ему кажется, людям во все периоды че¬
ловеческой истории...
Питается он скверно; в Рязани ему дали продовольственную
карточку, теперь Шурочка может успокоиться, по крайней мере
хлеб у него будет. В столовой его кормят котлетами из конины,
вкус у них неприятно-сладковатый, запах чуть тухлый, но он их
ест; от его былого гурманства не осталось и следа. «Вот это мне
нравится,— смеется Орленев.— Раньше говорили: лошади по¬
даны, это значило — экипаж ждет у подъезда и можно ехать, те¬
перь, когда скажут — лошади поданы, торопись за стол и кушай
котлетки!» Долгая жизнь в довольстве по испортила его, он не¬
прихотлив и легко мирится с бедностью; окружающие его актеры,
люди рядовые, всю жизнь едва сводившие концы с концами, за¬
видуют его нетребовательности и выносливости. Как уживаются
его кутежи и расточительность с таким аскетизмом! Единствен¬
ное, что его угнетает, это стирка («сегодня в первый раз в жизни
стирал себе в холодной воде сорочку, вот ты бы посмеялась, если
бы увидела»,— пишет он жене), но и к этому он бы привык, если
бы не Шурочка — как обеспечить ей сколько-нибудь сносное су¬
ществование?
На короткое время он возвращается в Москву и идет в бюро
(актерская биржа) подыскивать себе работу. Там среди дирек-
торов-нанимателей обращает на себя внимание энергичный ма¬
ленький человек с чемоданчиком в руке. Метод вербовки у него
особенный, еще неизвестный в анналах театра. П. Дьяконов
в своих неизданных мемуарах так описывает этого директора:
«Он заводил разговор то с одним, то с другим актером, открывал
свой чемоданчик, доставал оттуда белый хлеб и аппетитный ку¬
сочек копченого окорока, отрезал по ломтику и угощал своих
собеседников. «Вот, дорогой, чем будете питаться, если поедете
со мной в Алатырь» 7. Изголодавшиеся актеры глазам своим не
верили и в поисках сытости подписывали контракт с предприим¬