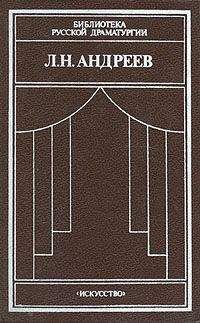дальше уходила от него. Вы не найдете здесь элегии в духе из¬
вестных стихов Тютчева. Павел Николаевич и в этом возрасте
сохранил энергию чувств, ничуть не старческих. Ему казалось,
что союз с Шурочкой полностью вернет ему силы и вкус к жизни;
он не задумывался об артистических данных девушки, зачем ему
это, он видел в ней прекрасный образ семейного покоя и материн¬
ства. Знакомый с Орленевым по гастролям послереволюционных
лет актер П. К. Дьяконов в своих воспоминаниях пишет, что Па¬
вел Николаевич в Шурочке, молодой женщине цветущего здо¬
ровья, с пухлыми румяными щечками, нашел свою Регину,
к тому же — в отличие от ибсеновской — натуру самоотвержен¬
ную, готовую нести свой крест до конца3. Так ли это? В тот мо¬
мент, когда Орленев искал близости с Шурочкой, у него впервые
в жизни появилась серьезная и устойчивая потребность в осед¬
лости, доме и семье. Ему нужна была подруга, а не сиделка или
нянька. Может быть, он упустил свои сроки, да, пожалуй, упу¬
стил! Но он попытается... Какая же горькая ирония была в этой
попытке — неисправимый бродяга, человек без быта пытается
осесть, обосноваться, пустить корни в момент величайшей в исто¬
рии бури, ломающей все устои, задевшей существование всех и
каждого.
Пройдет почти год, пока он привезет молодую жену в Москву
и они поселятся на даче в Одинцове. Как ни торопит он собы¬
тия, есть обстоятельства, устранить которые сразу нельзя. Ока¬
зывается, когда-то, еще в прошлом веке, он состоял в церковном
браке и получить справку в консистории о разводе не так просто.
А он хочет, чтобы все было по форме и по закону. И привести
в порядок дом в Одинцове, чтобы там можно было жить с (мини¬
мальными удобствами, тоже нелегко — война идет уже третий
год. И Шурочка никак не оправится после тяжелой болезни. Тем
временем он кружит по России и пишет ей письма из Новорос¬
сийска, Вологды, Екатеринбурга, Тюмени, Барнаула, Челябинска,
Рязани, Архангельска, Витебска и — в коротких промежутках
между этими поездками — из Москвы. Письма нежные, трога¬
тельные и поражающие своей отрешенностью от всего на свете.
Не похоже на Орленева, но это так — мир его сузился, он и Шу¬
рочка, и ничего вокруг. Он не может и дня прожить без ее писем;
почта запаздывает и спешит за ним вдогонку. В Барнауле он
получает письма, адресованные в Тюмень, в Москве — адресо¬
ванные в Рязань.
Этот роман в письмах не очень богат содержанием и сводится
к одной, часто повторяющейся ноте: я очень по тебе соскучился
и считаю дни, когда наконец мы будем вместе. Скрашивает эту
однотонность только мечта о будущем; она, по старым орленев¬
ским масштабам, довольно скромная. 10 декабря 1916 года он пи¬
шет из Архангельска: «Дорогая моя и любимая! Сижу и все
время думаю о нашем будущем... Здесь в Архангельске и хо¬
лодно, и ветрено, это ведь у самого Белого моря. А я мечтаю
о Черном море в Крыму, куда мы с тобой из Астрахани отпра¬
вимся: там рай земной, там солнце яркое и фиолетовые горы, и
воздух весь там благоуханиями напитан! Там в декабре тепло, и
в январе в конце цветут фиалки». Они поедут туда — отогреть
души: он после архангельской стужи, она после астраханской
промозглой сырости. Мечта эта не сбывается, Орленев не может
нарушить контракты и сорвать назначенные гастроли, и только
с весны 1917 года начнется их совместная жизнь.
И сразу меняется характер их переписки. Раньше были только
мечты и признания, теперь появилось и спасительное чувство
дома: ему есть куда вернуться, его ждут, он кому-то нужен!
«Пришел сейчас из театра, играл «Привидения». Весь разбитый,
измученный и таким одиноким чувствовал себя»,— пишет Орленев
из Белгорода в апреле 1917 года. И в эту минуту отчаяния он об¬
ращается к жене-другу, «душе кристально-чистой», и так раду¬
ется переменам в своей жизни («сердцем всем затрепетал»), что
слова, которые он знает, кажутся ему слишком бедными для его
чувства («слова все потерял, которыми хотел бы высказать тебе
все, все»). Его исповедь становится теперь более деловой, он рас¬
сказывает Шурочке о своих новостях и планах и не приукраши¬
вает невзгод, которые терпит во время своих скитаний. Путь его
лежит далеко, все дальше и дальше от Москвы.
В конце августа он добирается до Черного моря, правда, это
не благословенный Крым с январскими фиалками, а Батум, где
он задыхается от тропической жары и не может найти себе при¬
станища (актерам «приходится ночевать на вокзале, кто на полу,
кто на стульях»). Но что значат эти неудобства по сравнению
с тем, что происходит вокруг («вспомни, что весь мир теперь
переносит, нет ни одной семьи, где не было бы горя, так что наши
испытания другим могут показаться игрушкой»), хотя они доста¬
точно обременительны. Дела его труппы «пока идут блестяще».
Несмотря на все потрясения лета 1917 года, интерес к его
искусству не падает — чудо, которое он не может объяснить.
Ведь его театр не предлагает никому забвения и счастливых снов,
репертуар у него остался старый — с его неблагополучием, бун¬
том и драмой жизни. Гастроли его расписаны по дням, в сентябре
он побывает в одиннадцати городах — начнет в Кутаисе и кон¬
чит в Коканде.
О чем он пишет Шурочке из этих городов? О том, что средне¬
азиатская жара хуже черноморской, и как отразилась война па
жизни этой далекой окраины старой России, и как голодно живут
люди в когда-то хлебных местах, и что вопреки всем бедствиям,
обрушившимся на людей, успех у его гастролей стойкий.
А о себе — он плохо ест, плохо спит, хорошо играет и все время
мысленно работает над Лорензаччио... Ему теперь кажется, что
старая пьеса Мюссе проникнута таким духом вольности и тирано-
борства, что ее стоит возобновить в дни революции. Вот отрывки
из его последующих писем. В Красноводске нестерпимая жара,
такой не помнят старики. Он купил книги, собрание сочинений
Гамсуна и «Анну Каренину», но сейчас не читает ни строчки.
«Не могу. Думаю, все думаю о «Лорензаччио». В Ашхабаде та¬
кая же жара. Жизнь в городе начинается вечером. Днем люди
боятся солнечного удара и, если нет крайней необходимости,
сидят по домам. Он продолжает работать над «Лорензаччио».
«Хочу снимать картину и играть в Москве. Помолись, моя воз¬
любленная, чтобы мне удалась моя затея». Осенью, вернувшись
в Москву из Средней Азии, он вчерне заканчивает работу над «Ло¬
рензаччио» и приглашает к себе Тальникова (тот находится те¬
перь в Ростове) для последней отделки пьесы Мюссе в двух ва¬
риантах — театральном и кинематографическом: «Теперь везде
жить трудно и неизвестно, как жить. Приезжай, пожалуйста,
что-нибудь придумаем» 4. Письмо это написано незадолго до Ок¬
тябрьской революции.
В черновых вариантах мемуаров Орленева есть фраза, не во¬
шедшая в текст изданной им книги. В ней говорится, что после
Февральской революции разные театры Москвы и Петрограда
предлагали ему сыграть некоторые ранее запрещенные пьесы, он
отказывался от предложений, потому что события «этого блестя¬
щего времени и ярких озарений и все восторженное, происходя¬
щее кругом, подняло дух и захотелось страстно высказать», и
потому его выбор пал на Лорензаччио — этого «итальянского
Раскольникова». В письмах к Шурочке, как мы знаем, тема Ло¬
рензаччио возникла позже, в конце поездки лета и осени 1917 го¬
да. А сыграл он эту роль в начале 1918 года, и отзывы в критике
были неодобрительные; его ругали не за плохую игру, его ругали
за неуместность самой идеи возобновления старой пьесы Мюссе.
«В другой обстановке, в другое время Орленев, вероятно, был
отличным Лорензаччио» 5,— писал московский журнал. Но как