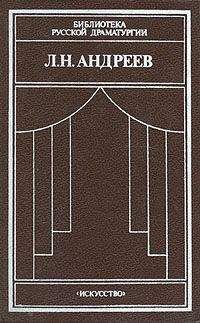шенник с подхватом», Клешнин грубо разыгрывает эту карту, но
орленевский Федор неожиданно туго поддается на его лесть, хотя
авторский текст звучит недвусмысленно: «Я знаю сам, Петрович,
что я суров...» Что означала эта реплика для Орленева? Менее
всего приятное сознание своей силы, его Федор слишком прони¬
цателен для такого самообольщения. Но зачем ему выдавать свою
слабость: Клешнин хитер, но и он не глуп — пусть этот льстец не
зарывается, пусть знает меру! Наивная уловка, но помимо ребя¬
чества в ней есть расчет и какая-то попытка сопротивления.
И психологическая подготовка к следующему затем диалогу, где
речь идет о мятеже Шуйских, пресечь который может только их
немедленный арест. В разгар этого диалога появляется Иван
Шуйский.
К слову А. К. Толстого, к каждой его реплике, к ее строению
и даже пунктуации Орленев относился с редким для актеров тех
лет уважением, но без подобострастия, защищая свое, не всегда
совпадающее с авторским понимание роли Федора. Так, он
считал совершенно необъяснимым появление Ивана Шуйского во
дворце в четвертом действии. Зачем он туда пришел? Какой смысл
в этом свидании за несколько часов до начала уже объявленного
мятежа? Если он раньше не откликался на просьбы Федора, звав¬
шего его во дворец, почему он откликнулся теперь? Трудно ведь
предположить, что Шуйского, только что по пунктам выработав¬
шего план мятежа, гложет раскаяние; душевная раздвоенность и
рефлексия ие вяжутся с образом этого доблестного князя. Так до
конца Орленев не нашел внутреннего мотива в последнем диа¬
логе Федора и Ивана Шуйского. И все-таки для нашего знаком¬
ства с Федором эта встреча оказалась весьма существенной.
Когда прямодушный Шуйский, почувствовав невыносимую не¬
ловкость от вынужденной лжи, признается, что «встал мятежом»,
чтобы вырвать Русь из-под власти Годунова, и конфликт идет
уже в открытую, Федор, не задумываясь о себе и интересах своей
короны, прибегает к спасительной лжи. Оцените меру этого бес¬
корыстия: шепотом, вполголоса просит он главу направленного
против него мятежа замолчать, иначе случится непоправимое —
события выйдут из-под его коптроля, и он не сможет с ними спра¬
виться. Версия заговора, к которому будто причастен он сам, по¬
ражает нелепостью, но сколько в ней самоотверженности и доброй
воли, сколько сердечного чувства, пренебрегающего рациональ¬
ным началом жизни. Чтобы оправдать эту чрезмерность, Орленев
вел диалог с простотой, которую я назвал бы библейской. В его
знаменитом обращении к Шуйскому:
не было никакой вынужденности; так оп думает и так говорит.
Этот слабый человек был самым свободным человеком в кругу
действующих лиц трагедии.
Только это нсдолгая свобода. Автор приготовил для Федора
еще одно испытание: едва уходил со сцены Шуйский, как сквозь
строй слуг прорывался Шаховской с ужасной вестью о заговоре
бояр против Ирины и готовящихся матримониальных переменах
на русском престоле. Спокойно приняв известие о покушении на
его власть, Федор не мог примириться с вмешательством в его
личную жизнь. Вероломство старого князя недоступно его пони¬
манию, он вслух читал челобитную высшего духовенства и бояр,
недвусмысленно требующих удаления Ирины, и плакал, не скры¬
вая своих слез:
«Гражданин» Мещерского по этому поводу писал: «Царь Фе¬
дор прощает Ивану Шуйскому все: упрямство, суровость, непо¬
чтительность, даже осознанную им измену. Его называют за это
святым. Но вот коснулись больного места этого святого— его хо¬
тят разлучить с женой, и святой стал гневен, мстителен. Возьмите
власть, деньги, принципы, чувства, разрушайте основы государ¬
ства, но оставьте жену — няньку, друга, самку» 8. Узкий мещан¬
ский взгляд! Предательство Шуйского для орленевского Фе¬
дора — ужасное несчастье, не оставляющее надежд. Одно дело —
дипломатия Годунова, он хитрит, он ведет счет на тысячи, не за¬
мечая единиц. Другое дело — Иван Шуйский, рыцарь долга, че¬
ловек чести, человек «главного ума»; как же примириться с тем,
что его орудием тоже служит насилие, что он тоже неразборчив
в средствах борьбы. Где же граница, отделяющая добро от зла, и
есть ли она? Во что же Федору теперь верить и где искать
опору — такова тема Орленева в четвертом акте трагедии.
От понесенного удара Федор уже не мог оправиться, хотя по¬
нимал, что если царство осталось за ним, то после всего того, что
произошло, царствовать надо по-другому. Еще недавно он как
мог открещивался от наследства Грозного; при всей слабости в от¬
рицании деспотии и насилия он был упрямо последователен. Те¬
перь, в пятом акте, в сцене у Архангельского собора, Федор, от¬
чаявшись, обращается к Грозному, «с богом ныне сущему»,
с просьбой-молитвой научить его быть царем. Орленев дорожил
этой сценой. До того на протяжении всей трагедии Федор усту¬
пал, когда его к тому вынуждали обстоятельства, у него не было
выбора, и он подчинялся необходимости, какой бы неприятной
она ему ни казалась. У обращения к Грозному не было такого
конкретного повода, навязанного внешними событиями. Монолог
у собора — итог всего предшествующего развития нравственной
драмы Федора, пытавшегося уйти от прошлого и после тяжких
уроков вынужденного вернуться к нему.
В серии Мрозовской этот шестистрочный монолог запечатлен
в шести фотографиях, кадр за кадром восстанавливающих игру
Орленева. Он начинал его, выпрямившись во весь рост (а не на
коленях, как предписывает ремарка А. К. Толстого), и постепенно
склонялся все ниже и ниже; завершался монолог земным покло¬
ном на паперти Архангельского собора. Поразительна динамика
этой коротенькой сюиты, где, собственно, ничего не происходило
и все непрерывно менялось: игра глаз, игра рук и посоха в руках
Федора, как бы вычерчивающего графический рисунок мизан¬
сцены.
Он молится и ждет чуда — на что ему еще рассчитывать? Мо¬
литва эта полна страдания, и в глазах Федора затаилось столько
муки, что без слов понятна степень его душевной надломленно¬
сти. Потом к страданию прибавляется исповедь — он запутался,
он не знает, как быть дальше, и его глаза становятся задумчиво
строгими — в этот момент он судит самого себя. Потом насту¬
пает момент экстаза, воодушевления молитвой, Федор еще больше
углубляется в самого себя, и его излучающие свет глаза устрем¬
ляются куда-то ввысь, правда, цока он ведет диалог с неземными
силами в интересах земных дел. А следующая стадия игры —
окончательная отрешенность, вокруг него пустота, он сказал все,
что мог, и больше ему сказать нечего, и Федор в изнеможении
опускается в земном поклоне, и его потухший взгляд устремлен
вниз, в одну точку.
И у каждой фразы в этом монологе есть свой жест, скорее бы¬
товой, чем театральный: вот Федор задыхается от волнения и
рука его хватается за сердце, вот он подыскивает нужные слова, и
вы ощущаете дрожь в его судорожно сплетенных пальцах. Даже
в состоянии экзальтации его движения сохраняют естественность.
Посмотрите на Федора в минуту высшей его сосредоточенности
(фото № 77) — левой рукой он сжимает посох, правая рука про¬
тянута вперед; он разговаривает с небом со всей присущей ему
нервной горячностью. Вы проникаетесь значением этой минуты,
более тревожной, чем торжественной, и сквозь царское облачение
видите драму частного человека, интеллигента конца века, бремя
забот которого исключает какую-либо театральную эффектность.
И есть еще «действующее лицо» в этой сцене — царский посох,
увенчанный крестом: он аккомпанирует движениям героя, а ино¬