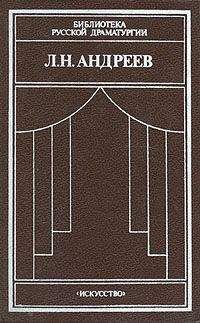рится обиняками, а у Ключевского впрямую — «ни простым бук¬
вам навычен бе». Какой же это был могучий ум, если при его
«бескнижности» он поднялся до таких вершин государственной
мудрости! Орленев обрадовался этому открытию — такому Году¬
нову его Федор мог довериться, даже явно не сочувствуя его тео¬
рии хирургического целения «старинных ран».
Между вторым актом и появлением Федора в третьем акте
происходит много событий, и главное из них — ночной стрелецкий
разгром сторонников Шуйских и ответные меры бояр, потря¬
сенных вероломством Годунова и требующих его отрешения и
развода царя с Ириной. Федор ничего об этом не знает, он только
что проснулся, чувствует себя не совсем здоровым, вспоминает
дурной и непонятный сон, в котором реальность спутана с пугаю¬
щими призраками кошмара. (Этот момент мучительного перехода
от сна к яви прекрасно передан на фото № 36—38.) Появление
Бориса со связкой бумаг возвращает его к действительности; ему
очень не хочется начинать новый деловой день — он отдал все
государственные полномочия Борису, разве, пожертвовав своей
властью, он не вправе извлечь какую-то выгоду из этой слабо¬
сти? Зачем же держаться формальной процедуры? С «бездушной
размеренностью», по выражению критика, Борис, разложив бу¬
маги, переходит к делу. Сознание Федора проясняется не сразу,
момент отрешенности, полусна-полуяви еще длится; наконец Бо¬
рису удается втянуть его в диалог, но, поскольку речь идет о вы¬
сокой дипломатии, реакции Федора остаются вялыми: он подат¬
лив, безынициативен и охотно идет за подсказкой своего первого
и единственного министра. Царь иверский просит принять его
в подданство и защитить от притязаний персидского царя и тур¬
ского султана. Федор готов одобрить любые действия Бориса по
отношению к неведомой ему иверской земле, находящейся где-то
рядом с царством кизилбашским. Это ничуть не задевающая его
абстракция, чистая символика, движение в пустоте пространства.
Интересы государства приобретают для Федора живой смысл
только тогда, когда их можно перевести в план чьей-то личной
судьбы, в образ конкретного существования. Он оживляется,
услышав о просьбе двух бояр, бежавших при Грозном в Литву,
разрешить им вернуться в Россию. Орленев произносил этот не¬
большой монолог о жертвах самоуправной и мстительной власти
(по словам Федора, боярам надо оказать хороший прием и дать
деньги и землю) с непривычной для него рассудительностью.
А может, это была озабоченность, ведь здесь, па его взгляд, во¬
прос идет о самой жизни, а не об ее преломлении в отвлеченно¬
стях политики. И есть за кого заступиться! И есть возможность
хоть как-то рассчитаться с тягостным для него наследством де¬
спотии Грозного!
Итак, он хочет, чтобы был поставлен предел жестокостям и не¬
терпимости предшествующего царствования. Для орленевского
понимания Федора этот монолог — хороший козырь: пономарь па
троне, и такая широта государственной мысли.
От возвращения бояр прямой переход к возвращению царе¬
вича Дмитрия из фактической ссылки. Ирина, соблюдая необхо¬
димую почтительность, вмешивается в разговор Бориса и Федора
и обращается к мужу с резонным вопросом: он простил «опаль-
ников литовских», почему же ему не вернуть в Москву ни в чем
не повинных мачеху и брата? Трагедия А. К. Толстого построена
как часовой механизм, колесики цепляются друг за друга, и эта
рассчитанная плавность иногда кажется слишком уравновешен¬
ной. Драматизм событий, начиная с третьего акта трагедии, тре¬
бует более резкого смещения планов, более динамической, взрыв¬
чатой, шекспировско-пушкинской композиции. Может быть, по¬
этому Тургенев, прослушав в авторском чтении отрывки из «Царя
Федора», отозвался о них критически и писал Полонскому: «Где
же драма!», хотя и признал пьесу «довольно замечательным пси¬
хологическим этюдом» 5. Вопреки авторской размеренности темп
игры Орленева после разговора с Ириной был возбужденно-нерв¬
ный, со многими паузами-перебивками.
Бунт Федора начинается с недоумения и жалобы: почему он
стеснен даже в таком семейном деле, как возвращение Дмитрия
из Углича? Его голос звучит тревожно, но неуверенно, и у гор¬
дой реплики о том, как дорожит он своим словом, есть трагико¬
мический оттенок — еще одно возвращение к детству, к его уте¬
шительным иллюзиям и несыгранным играм. Только игра теперь
Другая, более нервная, более напряженная. Еще ничего не про¬
изошло, и все изменилось; это как предчувствие припадка
у Мышкина в «Идиоте». Такие минуты сосредоточенного ожида¬
ния, внешнего покоя перед уже назревшим взрывом удавались
Орленеву, как мало кому другому из актеров — его современни¬
ков. Разве что Моисеи! Минимальные физические усилия, только
больше порывистых движений, больше беспокойства в глазах —
и публика замирает в предвидении взлета трагедии.
Стремительно входит Шуйский и с несвойственной ему за¬
пальчивостью обвиняет Бориса в клятвоотступничестве. От этих
слов Федор так теряется, что не знает, как вести себя, — про¬
изошло какое-то недоразумение, роковая ошибка: «Позволь,
позволь — тут что-нибудь не так!» Но, когда Борис, не моргнув
глазом, признается в расправе над купцами, Федор в отчаянии
вскрикивает: «А клятва? Клятва?» Он вспыхивает и быстро гас¬
нет; его чувству не хватает длительности, оно неустойчиво, и тем
ослепительнее его короткие вспышки. У орленевского Федора
в этом акте был не один, а по крайней мере три взрыва, причем
динамика у них т-тарастающая, хотя в последнем взрыве, связан¬
ном с отрешением Бориса, уже не было истошпости и появилась
просветленность и даже некоторое величие.
В том поединке, который снова завязывается между Шуйским
и Годуновым, нравственная правота старого князя не вызывает
сомнений. Доводы Бориса относительно новой и старой вины вче¬
рашних выборных — ото такое крючкотворство, такое формаль¬
ное законотолковаиие, что Шуйский с полным основанием назы¬
вает его «негодным злоязычием». По тексту трагедии слова
Бориса оказывают на Федора воздействие: он не слишком им ве¬
рит, но все-таки верит. А в орлеиевской трактовке Борис его
мало в чем убеждал; нутром, инстинктом Федор безотчетно чув¬
ствует шаткость позиции своего рассудительного шурина, но
мысль об окончательном разрыве Шуйского и Годунова — и
в этом случае неизбежной распре в Русском государстве — так
пугает слабого царя, что он хочет сохранить пусть худой мир,
лишь бы только мир.
В его уклончивом поведении нет хитрости, есть только вы¬
нужденность, но она достается ему дорого, потому что он посту¬
пает не по велению сердца, а по закону необходимости. Вот по¬
чему, когда заходит речь о возвращении Дмитрия и Борис
с прежней, ничуть пе изменившейся уверенностью говорит:
«...в Угличе остаться должен он», Федор, измученный своей не¬
решительностью и бесконечными уступками неприятному и не¬
понятному ему закону пользы, приходит в исступление и на пре¬
деле охватившего его отчаяния задает себе и всем окружающим
вопрос: «Я царь, или не царь?» (В серии Мрозовской этот пик
трагедии изображен кадр за кадром на снимках № 45—49.) По
замечанию Ю. М. Юрьева, одна эта фраза раскрывала «всего Фе¬
дора до конца» 6 — в самой интонации Орленева публика почув¬
ствовала страшную слабость Федора. Есть в театре, напоминает
нам мемуарист, давно выработанное правило: если хочешь, чтобы
зритель поверил в твою правоту и силу, произноси слова с уда¬
рением на долгих слогах, тогда они прозвучат с необходимой вну¬
шительностью. Орленевский эффект, как рассказывает Юрьев,