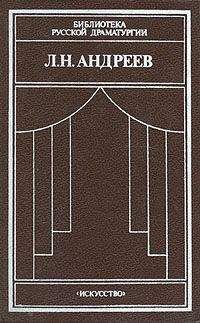шительностью. Орленевский эффект, как рассказывает Юрьев,
строился по обратному принципу: «вместо того чтобы ударять на
долгих слогах», он подкидывал их вверх, «на высокие ноты, так
что порой получалась даже визгливость, и потому его слова ни¬
кого не убеждали в том, что Федор по-настоящему царь».
С наблюдениями мемуариста нельзя не согласиться, но они
требуют уточнения. Мучительную слабость Федора, так яв¬
ственно прозвучавшую в знаменитой фразе, не следует рассмат¬
ривать как его полный крах. Трагедия ведь только вступает в зе¬
нит, впереди еще заключительная сцена третьего акта, где Федор
берет на свои усталые плечи бремя власти, впереди еще третий
взрыв. Я уже не говорю о событиях еще пе сыгранных четвер¬
того и пятого актов. Итак, роковой вопрос «Я царь, или не царь?»
звучал у Орленева не только как крик отчаяния, в нем была еще
судорожная попытка собраться с силами, справиться с собой,
подняться над своей немощью, напомнить о безмерности царской
власти («Ты знаешь, что такое царь?» — фото № 50).
Одну недолгую минуту Федору кажется, что его посредниче¬
ская миссия и на этот раз удалась и согласие между Шуйским и
Годуновым будет восстановлено. Но уже после первой реплики
Шуйского выясняется, как далеко зашла их вражда и что прими¬
рить их невозможно — один должен уйти, другой остаться! Сле¬
дующая сцена принадлежит к числу самых трудных для Федора:
трагизм его положения заключается в том, что он сознает свою
неправоту и ничего изменить не может. Однажды доверившись
Борису, он послушно идет за ним. Будь он слеп духом, все было
бы проще, но орленевский Федор знает, что, отступив по слабо¬
сти от Шуйского, он предпочел закону морали, как он, Федор,
его понимает, закон пользы, как его понимает Борис, и в этом
суть нравственной драмы раздираемого противоречиями русского
царя XVI века. Как жить по совести, как быть самим собой, если
ты взял на себя бремя власти,— таким был лейтмотив Орленева
в третьем акте.
По мнению Кугеля, революционное значение «Царя Федора»
в исполнении Орленева заключалось в критике и дискредитации
монархического принципа наследования власти, при котором
«кроткий пономарь» может оказаться в должности «государствен¬
ного архистратига»,— то есть безответственной игры случая, спо¬
собного возвести на престол всякого безумца. Не слишком ли это
узкий взгляд? Федор у Орленева сознает свою неспособность
к правлению, у него нет твердости характера и таланта админи¬
страции, как у человека не бывает музыкального таланта, — и он
тяготится своим положением самодержца. Его религиозность, не
подчеркнутая у Орленева, тоже отсюда — это способ уйти от пре¬
вратностей мира, который кажется Федору таким непостижимо
неуправляемым. При этом у него есть одна дорогая ему идея,
выросшая из отрицания кровавого наследства Грозного: цель, для
которой требуются неправые средства, не может быть правой
целью. И вот этой идеей по своей слабости он пренебрег. Шуй¬
ский публично срамит его, царя всея Руси, и он отвечает какими-
то междометиями. Толстой не приготовил для Федора внятных
реплик в этой сцене, да и что может сказать человек в таком
угнетенном состоянии?
Шуйский уходит, и обескураженный Федор принимает все ус¬
ловия Бориса, хотя ищет способа успокоить старого князя. Но
это пока дальняя перспектива, а реальность такова, что хозяином
положения остается Борис. В этот момент триумфа Годунова
появляется Клешиин с донесениями из Углича и перехваченным
письмом Головина, самого дерзкого из врагов Бориса. Орлепев-
ский Федор читал эти бумаги так, как будто они относятся вовсе
не к нему: ругаются люди, может быть, у них есть основания ру¬
гаться! Не меняется тон Федора и после того, как он узнает, что
Нагие с помощью Шуйских намерены согнать его с престола. Не¬
торопливо, без какой-либо отчетливой эмоциональной окраски,
скорей задумчиво, чем нервно, он рассуждает вслух: «Боже мой!
Зачем бы им не подождать немного?» Такая реакция даже Бо¬
рису кажется неожиданной, по его здравому смыслу это патоло¬
гия, юродство, скудоумие («главный ум» он всерьез не принимает).
Но момент слишком удобный, чтобы он его упустил: тактика
у него оглушающая, он требует ареста, следствия и, если в том
будет необходимость, казни Шуйских. Один удар оп наносит за
другим, не сомневаясь, что перед такой атакой Федор не устоит.
Однако при всем хитроумии план Бориса оказывается нерасчет¬
ливым, сама его чрезмерность вызывает сопротивление, и слабый
царь на какие-то минуты становится сильным, отвергает ульти¬
матум Бориса и берет полноту власти на себя.
Третий бунт Федора не похож на первые два. Напомню, что
рождение силы Федора из слабости на этот раз выражается
у Толстого не в слове, а в паузе. В авторской ремарке так и ска¬
зано, что Федор произносит монолог об отрешении Бориса после
долгой внутренней борьбы. Это была одна из самых знаменитых
орленевских пауз, и Юрьев так описал ее: «В мучительной борьбе
с самим собой он все еще не знает, отпустить Бориса или нет...
Но как же тогда с Иваном Шуйским? Нет, он не может его каз¬
нить! ..Ив нем созревает решение, но, чтобы подкрепить себя
в этом решении, он прибегает к молитве, губы его шепчут ее
слова, и, наконец, после молитвы вы видите по выражению его
лица, что он уже решился. Бледное его лицо становится спокой¬
ным, сосредоточенным... Во всей фигуре какая-то торжествен¬
ность, величавость. Кажется, что он вырос на глазах» 7. Пауза
длится долго, и зал замирает, ожидая бурной развязки, но Федор,
не повышая голоса, читает монолог: «Да, шурин, да! Я в этом на
себя возьму ответ!»
Борис пытается возразить Федору, медлит, задерживается
в дверях, хочет выиграть время. И все напрасно! Федор не слу¬
шает его и с непривычной для их отношений категоричностью
просит его уйти: «Мне одному остаться надо, шурин» (фото № 70).
За исключением этой заключительной фразы, прозвучавшей
нервно, даже истерично, тон всей сцены у брленева был спокой¬
ный. И заторможенное, спрятанное вглубь чувство Федора, при
всей интенсивности не нашедшее себе выхода, захватывало своей
невысказанной драмой даже иноязычную аудиторию во время за¬
граничных гастролей Орленева. В медицине тех лет еще не суще¬
ствовало понятие стресса и его последствий, то есть нервного пе¬
ренапряжения без разрядки, которое ведет к опасным наруше¬
ниям в равновесии организма. Но все внешние признаки стресса
были в игре Орленева, как будто его консультировал ученый врач
наших семидесятых годов — напрягшиеся мускулы, расширен¬
ные зрачки, бледность кожи, учащенность дыхания... Он одер¬
жал победу пад Борисом, но она дорого ему обошлась. Силы по¬
кидают Федора, как только он остается вдвоем с Ириной, сдают
его нервы, сдает его плоть, не выдержавшая испытания. Прошло
пятьдесят лет, а я до сих пор слышу незабываемо печальную ме¬
лодию его слов:
Мы надолго расстаемся с Федором, он появится только
в третьей картине четвертого акта, которая, по ремарке автора,
происходит в покоях царицы. Теперь, кроме Ирины, ему не на
кого надеяться; он один несет бремя власти, призрачной власти,
но обставленной строго по церемониалу русского самодержавия.
Пока он пытается разгадать темный смысл бумаг, которые в рас¬
чете на его неумелость подобрал Борис, за стенами дворца бу-
шуют бури.
Первый их вестник Луп-Клешнин. По мысли А. К. Толстого,
мягкому Федору очень нравится, когда его упрекают в жесткости,
в том, что он унаследовал деспотические черты Грозного. «Мо¬
шенник с подхватом», Клешнин грубо разыгрывает эту карту, но