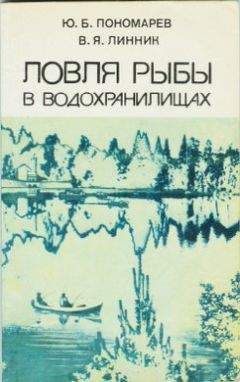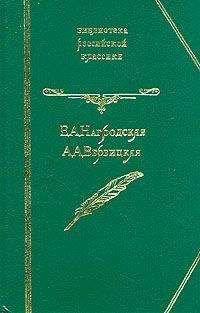К завтраку афалин присоединились чайки. Птиц здесь стало в десять, а то в пятнадцать раз больше, чем дельфинов. Чайки ссорились, ругались, дрались. Одни старались схватить кефаль налету, прочие ждали, пока на поверхность поднимутся куски истерзанной рыбины. Ухватив добычу, нужно было её защитить. Отовсюду, расставляя белые крылья, гогоча, наскакивали жадные соседи, когтями и проклятиями они преследовали удачливого товарища. Есть приходилось налету, укрываясь от укусов и тычков. Порой чайка заглатывала чересчур большой кусок, отчего, нахохлившись, вскоре отрыгивали в воду; преследование продолжалось. Если же птица всё-таки съедала ухваченную часть и показывала, что к отрыжке у неё нет ни единого позыва, то остальные, ворча, возвращались к дельфинам.
Афалины не стеснялись белых воришек, иногда даже отвлекались от лова, чтобы, подобно Бзоу, ухватить тех за расставленный хвост.
Охота продолжалась пятнадцать минут. Всё это время круг сохранялся ровным, а очередь его рассечения — нерушимой. Дельфин хватал всякую, попавшуюся на пути рыбину, затем позволял другому сделать то же. Фонтан из живой кефали не прекращался.
— Как на сковородке, — улыбнулся Заур.
— А чайки-то! С ума посходили!
Птицы выдерживали в своём построении купол.
Амза заметил, что на берегу, здесь обрывистом и неудобном ни к проживанию, ни к прогулкам, появились трое мужчин — их также заинтересовала дельфинья охота.
Закончив рыбалку, афалины дурачились возле лодок: выпрыгивали, плескались, проносились, вспенивая воду и заставляя кончик спинного плавника расслабленно болтался из стороны в сторону. Затем покинули бухту. Амза, помня слова Шараха Бутбы, надеялся, что Бзоу подплывёт к нему. Так он мог бы оправдать свою известность. Но Бзоу не объявился.
— Может, его там вообще не было. Откуда нам знать? — промолвил позже Даут. — Они все похожи, и стояли мы далековато.
— Да…. — вздохнул Амза, распутывая леску.
В первый день июля случился гром. Он был в горах, за высокой Мамзышхой, затем вовсе отошёл к перевалу Чха. Там, над кряжистыми отрогами, распростёрлись ливневые тучи. Частые молнии заставили пастухов прятаться в балаганах, а коров собираться под деревьями.
В низине, однако, было хорошо, ветер облегчал жару; дождь здесь ожидался нескоро. Туристы на заплывшем в бухту катере удивлённо вслушивались в гул грома и озирались, высматривая грозу.
Над берегом, вставая от холмов, высились всклокоченные густые облака; над ними, вытягиваясь вдаль — к морскому горизонту — путаными узорами был разбросан редкий песочек дымки, солнце в нём не терялось — светило постоянно, беспрепятственно.
Ароматы цветения и йода были приятны, но им мешало зловонье рыбзавода — оно всегда усиливалось к этому месяцу. В иной день запахи гнили и рыбьих потрохов угадывались даже за километр по сторонам, а уж если дул восточный ветер, то они расходились по всему Лдзаа.
— Слушай, — к Амзе обратился Саша Джантым. — Я три года назад был в Батумском дельфинарии. Надо сказать… да! Выступают. Чего творят! И прыгают, и танцуют, и мячики кидают, и с обручами там… химичат. Может, и тебе открыть свой дельфинарий, а?
— Точно! — улыбнулась Хибла. — Хоть толк будет с твоего Бзоу.
— А что! Турист приедёт. Дельфинарий — редкое развлечение. И не каждому дано с дельфином… Заработал бы!
Амза смеялся таким предложениям, но молчал.
— Ладно тебе мальчишку смущать. Вот, съешь лучше мёду. Турану вчера с Псху привезли.
— Чего это он — мальчишка? — удивился Саша. — Ему вот — вот восемнадцать! Джигит уже! А ты — «мальчишка»… — Джантым махнул рукой и потянулся за ложкой — пробовать мёд. — Чудные они, конечно, эти псхувцы. Живут, чёрт знает где! По полгода с людьми не общаются — снегом заваливает! Но уходить не хотят. Зато мёд, не спорю, что надо.
— Сам знаешь, туда многие от закона бежали. Поди достань. Спрячутся в хуторе или в заимке и всё, — промолвила Хибла, протирая тряпкой чувяки.
Горы вновь отозвались громом.
— У-у! Гремит!
— Это ничего. Пускай. Чайки, вон, в воде плавают, значит, погода будет хорошей. Да и не время для грозы. Потом. Недельки через две, не раньше.
Амза, разувшись, поднялся с веранды домой. Зашёл в родительскую комнату; ему нравилось высматривать её детали, вдыхать кожные, травяные запахи. Мебель здесь была простая, как и в прочих комнатах. У стены стояла кровать, за ней — тумба. За дверью, налево, — узкий стол со стулом; в углу — шкаф для одежды и прибитый к нему самодельный стеллаж. Именно к ним сейчас подошёл юноша. Тут были выставлены три чёрно-белые фотографии, сохранные во всём, кроме прежде надогнутых, а теперь и надорванных уголков. На одной суровел Антон, муж бабы Тины: одетый в архалук с широким плотным воротом и повязанный кушаком; за ним виднелся старый дом Кагуа, оставленный в Ткварчале. На второй фотографии был отец Антона — Абзагу Кагуа: улыбчивый, словно испивший вина; он был одет в бурку и папаху, отчего памяти оставил лишь своё лицо; рядом, на столе, лежала шашка, а в опущенной руке Абзага держал нагайку. На третьей фотографии были два брата: четырёхлетний Амза и одиннадцатилетний Даут, стоящие напротив их нынешнего дома в Лдзаа.
Кроме фотографий, двух шкатулок, поделок из самшита и двух раковин, на полках стояли книги. Тут были «Под чужим небом» Дмитрия Гулиа, его «Камачич» довоенного издания; рассказы «Аламыс» Лакербая, две книги Тарба, одна — Гочуа. Больше прочих юноше нравились легенды Абхазии, напечатанные на белой плотной бумаге, обёрнутые в зелёную сафьяновую обложку, столь приятную и взору и прикосновениям.
Комната была неопрятной из-за сгруженных вещей. Между кроватью и стеной собрались корзинки, мешки, тряпки; возле стеллажа стояли одна на другой деревянные коробки. В шкафу помимо вещей лежал старый лодочный мотор — Валера опасался, что из сарая его могут украсть; мотор не позволял дверце закрыться, отчего приходилось её притягивать верёвкой. Услышав во дворе шум возвратившегося запорожца, Амза перешёл в свою комнату.
Следующим днём его ожидала любимая забава — кормление шелкопряда.
Утром пришёл Заур. Вместе они цальдами[11] обрубили с шелковицы листья. Собрав их по карманам, зашагали по дороге. Прогулка в семь километров. В пути друзья говорили о дельфине, о грядущем осеннем призыве.
Жар становился настойчивым; юноши вспотели, но солнце им было радостью. Улыбаясь, они выставляли ему плечи, спину, грудь. Сейчас мартовская изморозь казалась до того далёкой, словно принадлежал их дедам, или даже прадедам. Солнце было всегда; а с ним — молодость, сила, смех.