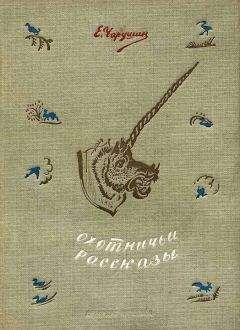Постепенно темнеет. Все мягче становятся очертания деревьев, будто сумерки — это дым, И дымом заволакивает лес. Все тише и реже поют птицы. Какой-то разнобой у них в пенье. То одна пичужка запоет совсем близко, то другая откликнется, начнет и не кончит. А потом маленькая пичуга чирикнула в последний раз, и все смолкло. Небо из голубого сделалось каким-то серо-фиолетовым, засветились звезды. Скоро совсем стемнело. И все кругом заснуло: Громадный лес, черная земля кажутся огромными и неподвижными. Одни только звезды в небе мигают, как живые. Высоко-высоко.
Да комарье проклятое не унимается. Знают они, кровопийцы, что нельзя мне шевелиться. Подлетит такой подлец, будто дудочка поет, все ближе и ближе, вот он у уха, вот у носа, опять у уха. И сел. Сел прямо на щеку, уколол и надувается. Пьет мою кровь. И другой, и третий, — наверное, сотни три понапились моей кровушки. Очень трудно сидеть и не двигаться, — руки онемели, ноги отсидел. Может — часа два я так промаялся, а может — три.
Вышла луна, и весь лес сразу залило голубым светом. Но вот пришли тучи, сначала небольшие, прозрачные, а потом все небо заволокло, и ночь стала темной, непроглядной. Как хорошо, что я положил лошадь у озерка. Вода немного светлей земли, и если придет зверь, то я его увижу — он будет чернеться на воде.
Наконец и комары улетели. Совсем все замолчало.
Вдруг хрустнула ветка — я вздрогнул. Это — зверь идет, а ничего кругом не видно. И страшно мне стало. Я тут как-то сразу понял, что сейчас мне в зверя стрелять надо. Дав какого зверя — в медведя. Дурак, думаю, и зачем это меня на приваду потащило? Сидел бы лучше дома, набивал бы патроны на рябчиков. Слушаю, слушаю, а ничего не слышно. Где зверь? Откуда его ждать? И полезли мне в голову разные жуткие мысли. Вспомнил я страшную историю с моим знакомым парнем. Он после этого случая совсем бросил охотиться и заикой остался на всю жизнь. Так же вот пошел он на приваду. Устроил лабаз на дереве, веревками укрепил жерди для помоста и залег там с ружьем и топором. Ночью пришел медведь. Парень его подранил, медведь рассвирепел и не ушел, как это всегда бывает, а полез к нему на дерево. Парень со страху не успел перезарядить ружье и топором стал рубить медведю лапы, да ударил не по лапе, а по веревке, которая помост связывала, и все сооружение, и он, и медведь повалились вниз — с треском, криком, ревом. А наутро под деревом нашли охотника, — он был без сознанья, — а под помостом медведя, который от раны или от страха подох.
А что, думаю, если со мной вроде этого что-нибудь случится?
Ох какой нудный страх меня забрал!.
Прислушиваюсь — тихо кругом. Только короед тикает в дереве: тик-тик, тик-тик — равномерно, как часы. И вдруг я вспомнил: да ведь это не короед, а мои карманные часы. Я их послушал, и с таким удовольствием послушал, будто с приятелем поговорил, и сразу мне стало не так уж страшно. Я как-то подбодрился, достал часы из кармана, выдрал кусок ваты из стеганой шапки и положил ее ощупью в механизм. Часы перестали тикать. И я опять замер: не двигаюсь и дышу тихо-тихо.
Еще прошло никак не меньше часу. И вот снова в лесу хрустнула ветка. Вот ближе, ближе, вот еще ближе — это зверь идет. Осторожные шаги зачавкали по болоту. К туше зверь пробирается. Сразу у меня во рту пересохло, я медленно наставил ружье на чуть светлевшее озеро и приготовился. Вот он, зверь, уже темнеет на воде. Какой-то длинный зверь и двигается медленно, будто ощупью. Я целюсь в самую середину зверя, а сам думаю: хоть бы попасть, хоть бы сразу его свалить. Не спеша выцеливаю. Вот-вот спущу курок. А нет, думаю, дай-ка еще получше выцелю… Плавно нажимаю гашетку — и вдруг чиркнула спичка, сверкнул огонек и осторожный голос сказал:
— Здесь, что ли, Егорша, лошадь-то?
Что со мной тут было! Захохотал я, как дурак, криком захохотал, на весь лес. Потом выпалил из ружья вверх, свалился с дерева и стал размахивать ружьем над головой, держа его за дуло. Попадись мне сейчас эти люди, ох и стукну! Ведь это паразиты лавочники пришли за лошадиной тушей. Вертеть ее на колбасу.
А я… я чуть человека не убил.
ЧЕТЫРЕ УТКИ
Рисунки автора
В ранние морозы, когда на реке и на озерах лед стал, взял я ружье с двенадцатью патронами и пошел на охоту.
К полыньям пошел, где от ключей вода не замерзает.
Думаю, не плавает ли там случайно поздняя пролетная утка или утка-нырок, гоголь, луток белый или какая-нибудь чернядь морская.
Эта дичь до больших холодов в наших краях кормится.
Вышел я ранним утром, по хорошей погоде, по морозцу.
Чистый, хрупкий снег под ногами. И небо наверху тоже чистое. А за каждым бугорком синяя тень лежит.
Иду, покуриваю, дым с белым паром изо рта пускаю.
И вдруг слышу: палят на реке. Чисто, громко, отчетливо палят.
Бух! Бух! Не переставая бухают.
Подошел я к берегу и вижу: стоит весь в сером пороховом дыму, как в облаке, молодой парень — охотник. Стоит и в полынью бьет.
А в полынье никого нет — чистота, вода сизая, черная, и рябь по воде ходит.
Кого же это парень стреляет?
А! Вон кого. Вижу.
Только принялся он ружье заряжать, вынырнули из воды разом четыре черняди. Головки у всех черные, атласные, шейка и грудь тоже черные, а на серых боках белые зеркальца.
Чего же они от выстрела-то не летят, не спасаются?
Подстрелки, видно. Их, значит, ранил здесь осенью кто-то, они и остались зимовать на полынье. С перебитыми крыльями далеко не улетишь. Ловят рыбешку ныром — тем и живут.
Тарарах! — ударил опять парень из ружья.
Градом прошумела дробь по черной воде. Только белые брызги поднялись, будто фонтанчики тоненькие заплясали.
А уток опять нет. Утки перед самым выстрелом унырнуть успели, будто ветром их сдуло.
Заряжает парень ружье, а черняди опять плавают как ни в чем не бывало. Шейки вытягивают — сторожатся.
Тарарах! — выстрелил парень — и снова то же самое: дробь по чистой воде, а уток нет.
Тарарах! — то же самое.
Бух! — то же самое.
Тарарах! Бух! Тарарах!
Парень вроде как с ума сошел, глаза выпучил, рот раскрыл. Даже шапку с головы потерял — простоволосый стоит, и пар у него от волос валит. Смотрю — он за пояс схватился, в патронташе шарит. Бормочет про себя что-то. Отыскал последний патрон, заложил в ружье. Трясутся у него руки на ружье.
Тарарах! Это в последний раз он ударил и бросил ружье в снег. А сам глядит — не убил ли кого случаем? Не выплывет ли хоть одна окаянная чернядь брюхом вверх, головой вниз. Нет, все четыре на воде плавают. Будто новые пароходики, только что выкрашенные.