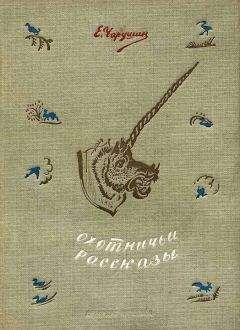Ну прямо взвыл парень. Ружье ногами топчет, кулаками в воздухе машет. Воет, как волк какой. Ну и ярый же охотник, видать!
Побежал я к нему.
— Стой! — кричу. — Чего с ума сходишь?
Уставился на меня парень — ничего не соображает.
— Дай, — говорю, — я за тебя счастья попытаю.
— Вали, — говорит, — попробуй.
А сам рукавом пот утирает.
Похлопал я свое ружьецо. Сдул снежок с планки, приложил к плечу.
— А ну, — говорю, — не выдай, Зауэр три кольца.
Зауэр — это фирма ружейная, а три кольца — знак на стволах. Если есть на зауэре три кольца, — значит, сталь в стволах особого закала — крепкая.
Прицелился я в уток, а они, на мое счастье, как раз все вместе сплылись — одним выстрелом уложить их теперь можно.
Бух!
Закрыло от меня дымом полынью. Не вижу, убил или не убил.
А когда дым разошелся, гляжу все четыре плавают.
Смеется парень.
— Вали, вали, стреляй, — говорит.
Ну, что ж, и выстрелю. Промашка у всякого бывает.
Еще раз приложился, а сам не стреляю, жду, чтоб погуще утки сплылись.
Бух! — утки на месте.
Бах! — плавают.
Бум! — ничего уткам не делается.
Вот дичь проклятая! Будто заколдовал ее кто.
Под самым носом торчит, а не возьмешь.
А уж дым не облаком, а густой тучей кругом висит, прямо дышать трудно — едучий он, пороховой дым.
И стоят в этой туче два дурака. Один дурак — парень, другой — я.
А утки знай себе плавают, то боком к нам повернутся, то задом, то передом, будто сами подставляются. Стреляй, мол.
Смотрим мы с парнем друг на друга, и оба смеемся.
— Что? — спрашивает парень. — Патроны все стратил?
— Да нет, — говорю, — еще где-то пара есть. В валенок, наверное, завалились из кармана дырявого.
— Ну, разувайся, — говорит, — доставай.
Сел я на снег, разуваюсь.
Так и есть — два патрона в голенище застряли.
Поглядел я на уток… Торчат они черными поплавками, покачиваются в полынье. Да ну их к лешему! Патронов последних жалко.
Лучше ворон поганых в лет шибануть, чем на этих дьяволов тратиться.
А тут вдруг старичок к нам сзади подходит, старенький старичок — седая борода.
— Здравствуйте, — говорит, — молодые люди. Вижу я, — говорит, — дым над рекой. Испугался даже, уж не река ли, подумал, загорелась. А вы тут, оказывается, по уточкам чикаете. Очень интересно, как я поглядел. Дайте-ка старому разок стрельнуть.
Я ничего не сказал. Сунул ему ружье.
«Стреляй, — думаю, — старый пень. Дай и над тобой посмеяться. Все веселей, когда одним дураком больше».
Прикладывается старичок к ружью. Пробует, прикладисто ли берется.
А потом повернулся к парню и говорит быстренько:
— Ну-ка, чикни курком, милый друг. Прицелься-ка пустым ружьем да и чикни.
— А ну тебя, — говорит парень. — Чего смеешься-то?
— Нет, чикни, чикни, — просит старичок. А сам пристально на уток смотрит.
Ну, парень чикнул, — чего ему стоит!
Враз унырнули черняди, как будто от настоящего выстрела.
А старичок считает. Тихо, равномерно считает:
— Раз, два, три, четыре…
И как досчитал до четырех — вынырнули утки.
Просит старичок:
— Ну-ка, еще раз чикни.
Опять чикнул парень, опять до четырех досчитал старичок, опять вынырнули утки.
Как сказал «четыре», так все утки и появились.
— А ну-ка в последний раз чикни. Раз, два, три…
Тарарах!
Ударил выстрел, рассеялся дым. Глядим — все четыре черняди на воде лежат, белыми животами поблескивают.
Как раз старику под выстрел вынырнули, под самую дробь попали.
В дальней-дальней деревне — от города до нее километров сто с лишним — живет один старичок-охотник. Зовут его Петруней. Милый старичок, но такой врун, что под пару ему никого на свете не сыщешь. Нос у Петруни красный, борода седая, и всегда в бороде табак да пепел. Умываться он не любит: холодно, говорит.
На охоте Петруня всегда суетится, всегда торопится. Не выцелит, а стреляет. А то зарядит патроны шиворот-навыворот: вместо дроби-порох, вместо пороха — дробь. Не велика ошибка, а ружье не палит.
Петруня в бога верит, чорта боится, кикимору какую-то почитает да еще лесную шишигу. Послушать его, так выходит, что под каждой елкой в лесу, за каждым пенечком, в каждой ямке непременно какой-нибудь чортик сидит. Хоть маленький, а сидит. Наткнется Петруня сослепу на сучок — ясно, это ему леший подставил. Захочет Петруня чайку послаще на привале у костерка попить, а леший ему вместо сахара соль подсунет. Вот и пей, вместо чая, рассол.
Всякие заговоры знает Петруня, разные приметы. Они лечится по-особенному — удивительными и чудесными способами. Вот, например, как он насморк себе вылечил.
Черного кота в полночь поймал, бок ему остриг и, как только запели первые петухи, начал стриженую шерсть на огне палить и дым от этой паленой шерсти нюхать. Такая вонь поднялась, что Петруня чуть не задохся. А все-таки помогло, говорит, недельки через полторы насморк как рукой сняло. Только царапины на носу остались, — поцарапал Петруню кот.
Очень любил я его вранье слушать. Бывало вечером, после охоты, выберем мы с ним место посуше и развалимся у костерка на всю ночь чаевничать. Тут-то и начинаются у нас разговоры. Я слушаю, а Петруня говорит. Такое наплетет, такое наскажет, что сам напугаемся досмерти, Попробуй его после этого за водой послать шагов за десять — в темноту — до ручейка, ни за какие тысячи от костра не уйдет.
Вот и прошлой осенью собрался я навестить Петруню. Захотелось мне его вранья послушать. Сначала я на поезде ехал, потом пешком пошел. Бреду себе по лесным тропинкам, по кочкам через моховища перебираюсь, по гати иду, как по клавишам переступаю.
У самой деревни догнал я какую-то старушку. Гляжу, а это Петровна. Петрунина жена, маленькая такая старушка, чуть-чуть повыше Петруни.
— Здравствуй, Петровна, куда торопишься?
— Домой спешу, — говорит. — К фельдшеру ходила. С мужиком моим что-то неладно. Утром пришел с охоты весь белый-белый, прямо зеленый, молитвы читает, крестится да бранится. На полати залез и стонет. А что с ним приключилось — и узнать не могу. Не говорит.
— Не унывай, Петровна, — говорю я. — Таких охотников хворь не одолеет. Пойдем-ка домой, попробую я твоего Петруню без фельдшера вылечить.
Пошли мы с Петровной — разговариваем. Я молчу, она говорит, новости рассказывает.
А новости у них такие. В первый раз за все время к ним в деревню из города дачник приехал. Каким-то типографом работает. Зовут его Ивановым, Семеном Федоровичем. Видать, очень ученый человек: две пары очков на носу носит и на всякий вопрос ответить может. И чудной души человек; со всеми деревенскими подружился, газеты им читает, разные городские новости рассказывает. В избе у него ежечасно ну чистый кагал. Народищу — тьма. И затейник такой! Привез с собой скрипку и три клетки с птицами. В одной клетке птица-соловей, в другой птица-кенар, а в третьей этакая большая птица — с галку. Зеленая она вся, и кличут ее Васькой. Эта птица Васька то петухом поет, то уткой крякает, то собакой лает. Да не повезло нашему гостю: третьего дня залез к нему в помещение кот голодный и давай орудовать: соловья — сожрал, кенара на волю выпустил, — его потом воробьи на улице заклевали. Только птица Васька коту даром не далась. Шерсть у него на спине выщипала, ухо порвала, а сама в лес улетела. Одни перышки зеленые от нее на полу остались. Уж так горюет типограф Семен Федорович. Двадцать рублей награды обещал тому, кто птицу поймает. И сам с утра до ночи по лесу ходит и зовет: «Вася, Васенька!» Да улетел его Васька. Ищи-свищи!