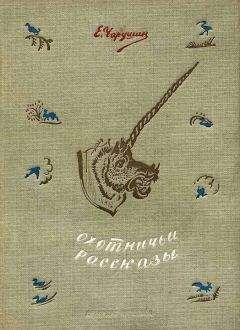Пошли мы с Петровной — разговариваем. Я молчу, она говорит, новости рассказывает.
А новости у них такие. В первый раз за все время к ним в деревню из города дачник приехал. Каким-то типографом работает. Зовут его Ивановым, Семеном Федоровичем. Видать, очень ученый человек: две пары очков на носу носит и на всякий вопрос ответить может. И чудной души человек; со всеми деревенскими подружился, газеты им читает, разные городские новости рассказывает. В избе у него ежечасно ну чистый кагал. Народищу — тьма. И затейник такой! Привез с собой скрипку и три клетки с птицами. В одной клетке птица-соловей, в другой птица-кенар, а в третьей этакая большая птица — с галку. Зеленая она вся, и кличут ее Васькой. Эта птица Васька то петухом поет, то уткой крякает, то собакой лает. Да не повезло нашему гостю: третьего дня залез к нему в помещение кот голодный и давай орудовать: соловья — сожрал, кенара на волю выпустил, — его потом воробьи на улице заклевали. Только птица Васька коту даром не далась. Шерсть у него на спине выщипала, ухо порвала, а сама в лес улетела. Одни перышки зеленые от нее на полу остались. Уж так горюет типограф Семен Федорович. Двадцать рублей награды обещал тому, кто птицу поймает. И сам с утра до ночи по лесу ходит и зовет: «Вася, Васенька!» Да улетел его Васька. Ищи-свищи!
Но вот и Петровнин дом.
Вошли мы в избу, а Петруня и вправду лежит на полатях и охает. Увидал меня — засуетился, с полатей слез и чаек поставил. Возится-возится, а хворь свою не забывает. То за голову схватится, то за бок, то за спину, будто все у него болит.
— Что, — говорю, с тобой, Петруня?
А он наклонился ко мне и шепчет, чтобы старуха не слышала:
— Я лешего в лесу видел.
«Ну, — думаю, — все в порядке. Если врет Петруня, — значит, здоров».
— Что ты, — говорю, — да неужели самого лешего? Да хоть рассмотрел ли ты его как следует? Ведь случай такой редкий.
— Рассмотрел, — шепчет Петруня. — В пяти шагах его видел. Стоит и с воронами играет, а ворон у него тысяч пять. Вырвет он из земли лесину-дерево, размахнется, гаркнет по-человечьи — все вороны так и взовьются кверху. А потом обернется он маленьким-маленьким лягушонком — вороны опять на землю опускаются, клевать его хотят. Подпустит он ворон поближе, а сам снова лешим обернется.
— Да из себя-то он какой?
— Из себя какой? Из себя он вот какой. Ни переда, ни зада у него нет. Только когда боком станет, его и видно…
— А все ты врешь, Петруня, ни одному слову твоему не верю.
— Да провалиться мне на этом месте, если я вру…
— Смотри, — говорю, — и вправду провалишься, держись покрепче за лавку.
Петруня даже прослезился от обиды.
— Не веришь? — спрашивает.
— Не верю.
— Так наотрез и не веришь?
— Не верю.
— А ежели я тебе его покажу?
— Тогда поверю.
— Ладно, — говорит, — пойдем в лес. Только вперед давай одной веревкой свяжемся. Уж если потащит леший к себе в трясину, так хоть обоих вместе.
Побежал Петруня в клеть, разыскал веревку здоровенную, толстую, достал вина, налил в стакан, выпил для храбрости, утерся.
— Ну, айда.
Пошли мы с Петруней. Сосновые острова миновали. Островом зовется тут лес высокий среди кустов и болот. Потом болото прошли, луга пересекли и в густой ельник забрались.
И вдруг вижу я: за ельником большущая стая ворон летает. Летает и галдит. Да, что за чудеса такие? А в лесу тихо-тихо, далеко разносится вороний крик.
Петруня раньше меня воронью стаю заметил.
— Ну, связывайся, — говорит, — да покрепче.
Связались мы веревкой и опять пошли.
Я впереди иду, а он сзади семенит, обеими руками за веревку держится.
Все ближе да ближе вороны галдят, гомонят, — прямо звон в ушах стоит. То затихнут, то снова изо всех сил заорут. И разом взлетит над лесом вся огромная стая, будто кто ее кверху подбросил. Полетают-полетают вороны и опять рассаживаются — кто на елку, кто на осину.
Слышу: дергается веревка в руках у Петруни, трясет моего Петруню. Шепчет он еле слышно:
— Вот он, леший-то, где. Веришь теперь? Ну, так пойдем обратно. Ну его к лешему!
— Нет уж, — говорю, — собрались смотреть, так посмотрим.
И вот мы вышли на просеку, где вороны кругом расселись, точно публика в цирке.
Сидят и все в одно место смотрят, в середину круга, а сами кривляются, как обезьяны какие, клювами щелкают, крылья разводят — вот-вот взлетят.
«На что это они смотрят, — думаю, — чего боятся?»
Посреди круга пусто, одна трава невысокая, ровная такая, будто посеянная.
А вороны все тесней да тесней обступают этот зеленый круг, все меньше да меньше он становится.
В чем тут дело — понять нельзя!
И вдруг кто-то громко сказал в густом кругу хриплым таким голосом:
— Караул.
Ворон будто вскинуло всех, — кверху поднялись, загалдели разом…
Смотрю на, Петруню — он лбом в пень трухлявый стукается, трясется, крестится.
А голос из травы опять выговаривает раздельно так, ясно:
— К-а-р-а-у-л, караул… Несчастье… Типография!..
Ну, откуда лешему про типографию знать? Даже смешно мне стало.
— Петруня… — говорю.
Обернулся, а Петруни моего нет. Одна веревка болтается. А сам Петруня по просеке, по кочкам так и лупит к деревне. Нипочем не догнать.
Сел я на пенек и жду. Может, леший еще что скажет?
Так и есть, заговорил:
— К-а-р-а-у-л. Типография. Сахару, сахару, сахару.
Тут я бросился прямо к лешему на полянку. Раздвинул невысокую траву, пошарил здесь, тут, там — и взял его живьем в руки, лешачонка этого, зеленого, глупого, несчастного.
А лешачонок, видно, обрадовался человеку. По рукаву на плечо ко мне залез, до самого уха добрался и головой о щеку мою трется.
Трется и приговаривает:
— Сахару, сахару, сахару. Пожалуйста, попочке Васеньке сахару.