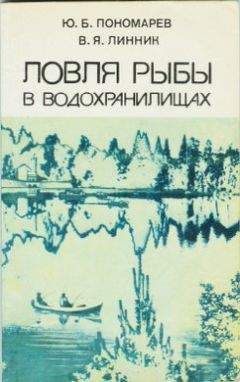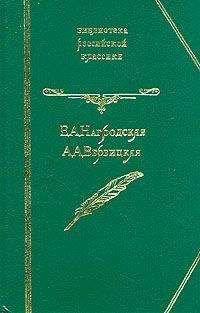— Здравствуйте! — Амза приветствовал Ахру Абиджа.
Старик сидел на колоде; курил. На нём были твёрдые сапоги, серые брюки и черкеска — опрятная, но истертая многими годами; её перехватывал тонкий пояс из коровьей кожи; за поясом — кинжал в украшенных красными галунами ножнах. Волосы старика прикрывала чёрная войлочная шляпа с тонкими полями. Меж ног была зажата кизиловая трость. Ахра Абидж любил порой — в день, ничем не отличный от прочих, выбранный по натсроению, одеться именно так, в том помянуть своих дедов. В газыри он вкладывал патроны для охотничьего ружья, подаренного сыном — Баталом. Трогая седину усов, улыбаясь тёмными зубами, старик промолвил:
— Теперь ты понимаешь, почему родители, прежде чем пустить к невесте жениха, обязательно накормят его вином, и поговорят. В вине виден человек. У-у! — Ахра покачал головой, вскрутил вверх указательный палец левой руки. — Сколько мужчин потеряло своих возлюбленных по пьяной голове! Так — хороши собой, а тут выпили, да такими делались, что не признать. Кто орлом загордится и говорит, словно он на высокой горе, да прочих, мелких, как муравьи, не видит даже. Кто шакальим смехом душу свою мелкую показывает. Такую мелкую, что алыча рядом с ней — пышный холм. Ну… и такие есть, что злыми становятся. Кричат, буесловят; кто за шашку, кто за пистолет берётся. Бывало и такое. Уж я навидался. На счастье, забрали у абхазов и шашки, и пистолеты; кулаками, значит, обходятся.
— Вы уже знаете… — вздохнул Амза. — Я думал, это… в тишине забудется…
— Ну! Как забыть такую синюю и вздутую морду! — Ахра тихо рассмеялся. — Мзауч и прежде был не красавец, а сейчас хуже подранка. Но ничего. Неделя, другая и спадёт. Образумится зато. А ты садись, чего стоишь!
Амза сел на край колоды. Старик раскатал новую папиросу; прикрыв ладонью, закурил. Коричневый аромат табака.
— Как твой дельфин?
— Хорошо. — Амза не хотел рассказывать о споре с Мзаучем. — Знаете, обидно, что с ним поговорить нельзя. Мы, вроде как… чувствуем друг друга, но иногда хочется слов. Я вечером отплываю на лодке, сажусь на корму; он держится рядом, смотрит на меня, и тогда голос… ну… был бы естественным. А он молчит.
— Это хорошо, — усмехнулся Ахра Абидж. — Пускай себе молчит. А то дай ему речь, замучил бы тебя своим дельфиньим трёпом. Может, он оказался бы тараторкой! Ты бы первую минуту радовался, пытался бы ответить, а он, знай себе, о рыбе, о подводных течениях говорит; начал бы учить тебя галсам да сетям. Чего доброго, принялся бы рассказывать о знакомых дельфинах! Пусть молчит.
Амза улыбнулся.
— Ты однажды поймёшь, что люди слишком много говорят. И ведь говорят-то о всякой ерунде. Всё им нужно озвучить. «У меня корова перестала доиться; скоро уж, должно быть, отелится». Ну и зачем это соседке? Ей какой с этого толк? «Смотри-ка, распогодилось». А я, видите ли, слепой и сам не замечу!
Старик говорил разными голосами, изображая то девушку, то старуху; Амза смеялся. В чужом городе будет приятно вспомнить Ахру. Юноша подумал, что по возвращению может его не застать…
— Много, много говорят. Зря это. Пока говоришь, не думаешь; а если говоришь постоянно, то, значит, не думаешь вовсе. Слова нужны к месту, а не попусту. И ведь поговорить-то по-настоящему не с кем. Галдеть — пожалуйста, а слушать и, подумав, отвечать — это редкость. Лучше уж молчать. Так что я тебе, дад, завидую. Хорошо, наверное, с дельфином. Жаль, что нельзя променять людское село на море, да?
— Да… Но я бы отказался. Не смог бы мать оставить.
Рассматривая дотлевшую папиросу, старик спросил:
— Интересно всё-таки… Почему он к тебе плывёт?
— Бзоу?
— Я стар, скоро уж помирать, а ведь ничего за свои годы не узнал о дельфинах. Вот — твой: где он живёт, с кем? Отпрашивается ли, чтобы с тобой встретиться или у него нет отца? Или есть, но нестрогий? Может, он потому зачастил к берегу, что его прогнали из дома? Из стаи…
— Бзоу? Нет… За что?
— Ну… За чрезмерную человечность! — Ахра усмехнулся.
— Был бы он, как Мзауч, то да, можно и выгнать, а тут…
— Об армии думаешь? — спросил неожиданно старик.
— Дней не считаю, но они заканчиваются быстро. Тот, что едва начался, уже склоняется к заре. Я прошу себя внимательнее жить, лучше запоминать всякую мелочь, но не получается. Живу, как и прежде — без и внимания.
— Это ничего… Поверь, три года — не больше трёх месяцев. Считай, ты уже опять сидишь здесь, но — постарел. Это ни к чему. Не проси, чтобы день скоро уходил. Так себя подгонишь к земле. Как есть, так и принимай.
Амза смутился грусти подобных слов; решил расстаться шуткой:
— Ладно. Если найду в армии невезучего человека, уговорю его приехать его к нам, в Лдзаа.
— Это зачем?
— Ну как? Сделаем его гробовщиком. Может, люди перестанут умирать.
Подумав, Ахра улыбнулся.
Дозревали последние плоды лета. В садах пошли чернотой кизил и ягоды русского винограда. Алыча располнела, окрасилась в тёмно-жёлтые оттенки. Братья Кагуа выкопали из сухой земли картошку; срезали с грядок капусту.
Отнеся Турану обещанную севрюгу, Амза остановился у трёх высоких эвкалиптов (те росли за двором дяди). Юноше нравились эти деревья. Баба Тина сравнивала их с детьми бедных абхазских фамилий. Самотканые рубашки и штаны быстро становились тесными и в неловком движении рвались; не имея ничего для смены, дети ходили во вретище. Так же эвкалипты: ствол их рос быстрее коры, и она трескалась, иссушалась, опадала на ветки и землю длинными нищенскими тряпками. Нарождалась новая кора; её ожидала та же участь. Все века эвкалипты стоят неприкаянно-обнажённые. Прежде местный люд, подозревая в этом неприличие, называл деревья бесстыдницами. Забавляла Амзу и жадность эвкалиптов до воды; их листья всегда поворачивались к солнцу ребром, чтобы оно своим вниманием не отнимало у них влагу. Потому от эвкалиптовой кроны тень была слабая и неудобная для отдыха.
— Что это? — удивился Даут, зайдя в калитку.
На веранде стояла детская коляска.
— Это Ляля, — ответила Хибла, пившая после обеда холодную ахарцву с мёдом.
— Ляля? Опять принесли ребёнка?
— Да.
— Хорошо, хоть в коляске.
Хибла прежде работала в садике Лдзаа. Её считали хорошей няней, и всякая знакомая, вынужденная отлучиться из села и не доверявшая мужу, несла малыша ко двору Кагуа. Валере это не нравилось, однако он молчал.
В этот раз двоюродная сестра Марины утром прикатила к изгороди коляску; позвала Хиблу и, не дожидаясь прихода женщины, заторопилась к машине; уезжая, крикнула, что ей нужно на две недели съездить в Гагры. У Хиблы не спрашивали согласия; все знали, что она не откажет. Денег не давали, а в этот раз даже забыли упомянуть имя девочки. Пришлось называть её Лялей.