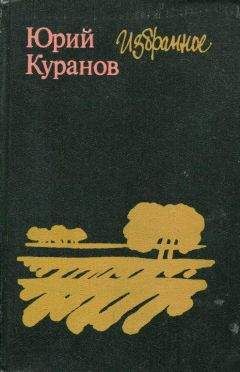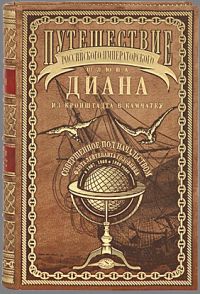Никита вылез из брички и направился в высокую тесовую ограду сквозь маленькую калитку в больших воротах. В ограде в темноте кто-то внушительно и с расстановкой произносил:
— Ирод. Чего молчишь? Привет.
За словами последовал удар, и Никите показалось, что кто-то всхлипнул. И опять прежний голос проговорил:
— Ирод. Чего молчишь?
Никита подошел к крыльцу и увидел в глубине двора человека. Человек сидел на корточках. В одной руке у него горела папироса, другой рукой он держал за морду собаку. Собака была огромная, мглистая, и умные глаза ее дымчато горели в темноте не то страхом, не то обидой.
— Дома отец? — спросил Никита.
— Дома, — ответил человек.
— Здорово, — сказал Никита и пошел в избу.
Отец сидел за столом при лампе и перебирал грибы. Грибами сильно пахло в избе, запах был стыловатый, сладкий, осенний.
— Здорово, Аверьян, — сказал Никита, снял шапку, прошел к столу и сел на лавку.
— Здорово, Генерал, Вишь, старухи-то нет, так самому грибошничать надлежит.
— Ну и погрибошничаешь, — сказал Никита.
Между грибами и лампой стояла зеленая прозрачная бутылка, вокруг нее — стаканы. Аверьян взял бутылку и налил два стакана до половины, а третий — доверху.
— Митьку не видел? — спросил Аверьян.
— В ограде он.
— Опять, поди, Ирода травит.
— Чего это он к нему пристрастился?
— Обидствует у него душа, вот и травит, — кто травится, власть над кем есть. — Аверьян встал, открыл дверь и крикнул: — Митька! Мить, оставь ты Ироду душу на покаяние. При чем тебе собака?
Аверьян вернулся к столу.
— Пей, Генерал, — сказал он, — пока штрафную.
— Я ведь, Аверьян, пить не буду. Я по делу. Картошку я для столовой скупаю, как в прошлом годе.
— Сначала выпей, потом о деле говори.
— Нет уж, давай о деле. Центнера четыре продашь?
— Продам. Пиши. Только пей. А то нам с Митькой-то много, а он ведь покою не даст, пока все не выжрет.
Никита расстегнул сумку и принялся писать химическим карандашом в своей книжке квитанций.
— Переживает, значит, — сказал Никита, не переставая писать.
— Как не переживать, — сказал Аверьян, выпил из своего стакана и заел красной свежей сыроежкой. — Как не переживать-то: ну-ко девка парня бросила.
— Она, что ли?
— Ну да. Да уж пора бы ему и очувствоваться. Давно ведь уж не сбегались по ночам.
— Правильно я тут написал? — Никита подал квитанцию Аверьяну.
— Сколь ни написал, все равно. — Аверьян просмотрел квитанцию. — Картошек нынче хватит. Толь деньги плати.
Никита отсчитал деньги, тройками.
— Пока не выпьешь, деньги не возьму, — сказал Аверьян.
— Верно, — сказал Митька, войдя в избу.
Никита подал тройки:
— Бери, выпью. А сколь денег потом потеряю, ты отдашь.
— Не потеряешь, — сказал Аверьян. — Пей да спать ложись. Митька утром в правление пойдет в село, ты его подвезешь, а он тебя проводит. Митька головы не теряет.
Никита поднял стакан.
— За что выпьем-то?
— Вот за что, — сказал Митька, долил свой стакан доверху, постоял, собираясь с мыслями, и, усмехнувшись, заговорил: — Вот за это полотенце с петухами. Я вытерся им, потом батя его постирает, и оно опять как новенькое. И мне хорошо, и другому тоже. Вот за него, за полотенце с петухами и с курицами.
Никита поставил стакан на стол.
— Я боюсь пить, — сказал он, — деньги у меня казенные, да и дело не все сделано.
— А куда же тебе еще на ночь-то глядя? — спросил Аверьян.
— Работа. К Настасье на хутор еще надо. К ней поеду.
— Ну и поедешь. Чего же, — сказал Митька, — тебя там примут. Там всех принимают.
— Я пошел, — сказал Никита.
— Куда же ты, дядя Генерал? — Митька встал в дверях и закрыл двери своей бревнистой спиной.
— Я пошел. Пусти.
— Зря ты, дядя Генерал. Чего ты вдруг? Посиди с нами. Скучно нам.
— Я пошел, — сказал Никита.
Он отодвинул Митьку рукой в сторону и вышел.
Окна у Настасьи горели ярко, и печь топилась так, что из трубы несло искры.
«Ишь бабы-то, — сказал Никита, — толку с вас… Почистить уж трубу не в силах». Он подъехал к избе. Ограды возле дома не было. Были только прясла вокруг огорода там, дальше, за домом. Никита направился к дому, ворча под нос: «Ничего. Вот ужо парень придет, он вам обеим хвосты накрутит».
За избой по огороду кто-то ходил. Потом остановился и сказал:
— Ах, вот ты где! Сейчас мы тебя и подожгем.
Голос был парнишечий.
— Где же у меня спички? — сказал тот же голос. — Дома, что ли? Ах, вот они.
Никита остановился. На огороде у самой земли вспыхнула спичка, и что-то затрещало, слегка задымилось. По запаху дыма Никита понял, что горит ботва. Большая куча вспыхнула, и огонь, чистый и широкий, рекой пошел в небо. Перед огнем стояла женщина в телогрейке, в белом коротком платье, в сапогах, простоволосая. Ночь обступила ее тьмой, и похоже было, что женщина стоит среди огня, отчего волосы ее казались фиолетовыми. Пламя разгоралось, и женщина отступила легкими шагами от своего большого костра и несколько раз, как маленькая, ударила в ладоши и запела:
Гори, гори ясно,
чтобы не погасло.
Глянь на небо —
птицы летят,
колокольчики гремят…
Она присела у огня и стала греть руки и смотреть в костер. Далеко в лесу несколько раз действительно ударили тяжелые колокольцы, Видно, кони ходили во тьме по выгону. Потом еще дальше один за другим грянули два выстрела. И выстрелы эти были веселые, словно человек просто палил в небо. Женщина встала и прислушалась. Вдруг она быстро обернулась в сторону Никиты и громко спросила:
— Кто там, в темноте?
— Это я, — сказал Никита, — Генерал.
Женщина весело подошла к нему и подала руку:
— Здравствуйте, дядя Никита, пойдемте в избу.
— Здравствуй, Шура, — сказал Никита и пошел вместе с ней.
— Небось умаялся по хуторам да по деревням разгуливать, — сказала Настасья. — Выпей пива да ложись отдохни.
Никита снял шапку, снял сумку, снял фуфайку и все повесил на гвоздь возле двери. Он сел за стол.
— Ты мне, Настасья, дай борща какого-нибудь, а я пока за чашкой-то и передохну.
— Да и пива-то выпей. Я уж такого лет сорок не варивала. Выпьешь — враз очумеешь, а через час-другой, глядишь, и очувствовался. Нацеди-ка ему, Шура, за твою радость.
Шура вышла на мост и вернулась, неся тяжелый липовый лагун в руке. Лагун был ведра на два. Мать принесла с кухни зеленую стеклянную кружку, высокую, с широким дном, граненую и с длинной тонкой ручкой, похожей на петушиную голову. Шура взяла у матери кружку, ототкнула лагун и пустила пиво. В избе сразу же запахло суслом и какой-то прохладной травой, напоминающей мяту.