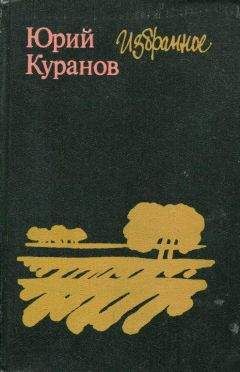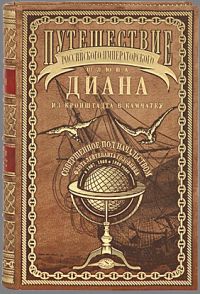— Ишь, мгла!
Сова не шелохнулась.
За окнами хуторской избы горел свет, и двигались люди, и что-то носили в руках от печки к столу. Никита взошел на длинное высокое крыльцо, оскреб сапоги на верхней ступеньке, еще раз оглянулся и еще раз проворчал:
— Ишь, мгла глазастая.
На мосту пахло солодом, солеными огурцами и копченной над вересом рыбой. Никита отворил дверь, вошел в избу и расстегнул фуфайку. В избе густо стоял запах горячей печки, сдобного теста и разных мясных приправ.
— Видно, вовремя заехал, — сказал Никита, прошел вперед и сел на лавку.
— Здравствуй, Генерал, — сказала, выходя из-за перегородки, огромная, красная от печного жара, беловолосая и уже немолодая женщина.
— Здравствуй, Авдотья Степановна. Вишь, говорю, ко времени завернул.
— Теперь к нам всякий ко времени, — улыбнулась женщина, сняла с двери холщовое полотенце и вытерла руки.
Другая, черная, сбитая, тоже красная и тоже немолодая, вышла следом. Она вынесла большой деревянный ковш пива и подала Авдотье Степановне. Та чистыми руками взяла ковш и поднесла Никите. Никита ковш принял, подержал перед собой и опустил на стол.
— Ты, Катерина Степановна, из Саратова, что ли, приехала?
— Из Саратова, Никита, — сказала вторая. — Свадьбы-то я мастерица разгуливать. Не помнишь разве, как еще твою-то свадьбу всю переплясала?
— Помню, помню, — сказал Никита, — мастерица-вентерица.
— Ты что же, Генерал, пиво об стол морозишь? — сказала Авдотья Степановна.
— Кольку, что ли, женишь? — спросил Никита.
— Кольку, Кольку, кого же еще. На свет пускаю, в люди.
— А я чего-то не слыхивал про эту свадьбу.
— Так ведь он враз решил. Решил — воля твоя. Женись. Ты чего пиво-то морозишь?
— Не Катерина ли невесту привезла из города?
— Куда там Катерина! На Шурке Настасьиной враз решил жениться. С руками и с ногами у Митьки оторвал. Пиво, говорю, чего сторонишь!
— Что же, Шура девка куда тебе! — сказал Никита, помолчал и добавил: — Я, Авдотья, пива пить не стану. По делу заехал.
— Выпей кружку и за дело говори.
— Какое уж тут дело будет: мне ведь что кружка, что десяток. Стало быть, при деле напиваться не буду. Еще деньги растеряю. Я ведь, Авдотья, скупать картошку езжу для столовой, ты же знаешь. Вот тебе слово, говори, сколько продашь, деньги на стол выложу, квитанцию подпишем, а сельпо потом на машине приедет.
— А сколько тебе надо?
— Хоть всю продавай.
— Всю не всю, а центнера три везите. Не жалко.
Никита расстегнул свою кирзовую полевую сумку, вытащил из нее книжечку квитанций, копировальную бумажку, химический карандаш и пристроился писать на столе.
Распахнулась дверь, и вошел Колька. Вошел он в расстегнутой фуфайке, без шапки, дышал шумно, грудью, и Никита подумал, что парень из бани.
— Здорово, Генерал, — сказал Колька и, не снимая фуфайки, сел к столу.
— Вот кому и выпить после бани, — сказал Никита и пододвинул ковш Кольке.
— Какой бани? Баня впереди. Пей ты. Ты гость.
Колька сидел нетерпеливо, озирался в избе, как в лесу, и то застегивал, то расстегивал фуфайку.
«Жарит парня изнутри», — подумал Никита и усмехнулся.
— Куда бы пойти? — сказал Колька и сильно выдохнул.
Авдотья ласково смотрела на него через стол, пока Никита писал. Колька провел по лбу ладонью, встал и направился к двери.
— Возьму ружье и пойду, — сказал он и вышел.
Никита расписался в квитанции и подал ее Авдотье:
— На той неделе приедут. Жди.
— Ты, Никита, остался бы на свадьбу, — сказала Авдотья.
— Нельзя мне, я ведь на работе, Ну-ко если все вместо работы на свадьбах начнут гулять.
— Так ведь свадьбы-то не каждый день.
— Теперь ведь осень, как раз свадебный срок. Глоток я за молодых отопью и поехал.
Никита взял ковш, отпил глоток, задержался, еще отпил, отсчитал Авдотье пачку троек, положил их на стол и направился к двери.
Катерина взяла пустые ведра и вышла вслед за Никитой, Она спустилась с крыльца и негромко сказала:
— Остался бы, Никита. Помнишь, как я на твоей свадьбе расплясывала?
— Чего же сделаешь, — сказал Никита, — что было, то было.
— И никого-то уж и нет, ни твоей бабы, ни моего мужика, — вздохнула Катерина.
— Чего уж об этом говорить, — вздохнул Никита.
— Поплясать бы хоть. На деревенской свадьбе давно уж я не гуливала.
— Поеду я. Не молодые уж мы.
— А на свадьбе на твоей я со зла плясала. Обидно было мне, что ты на Капке поженивался.
— Знаю я, — сказал Никита.
— А парень-то ты и вправду был что генерал.
Никита стоял, глядя в землю, и, глядя в землю, надевал через голову на плечо свою кирзовую сумку, Помолчали.
— Ты Шурку-то саму знаешь? — спросила Катерина.
— Хорошая девка. Любому мужику такую. Был бы молод, сам женился.
— Знаешь, значит, ее, — сказала Катерина с расстановкой.
— Знаю, — сказал Никита и пошел к бричке. — Здоровья тебе, Катерина.
Никита забрался в бричку, кашлянул и тронул коня. Сова все сидела на шесте и медленно водила головой.
— Ишь, мгла, — с сердцем сказал Никита, хлестнул коня и поехал.
Никита ехал полулежа, натянув на голову фуфайку и размышляя о том да о сем. Конь шел сам, не вслушиваясь в вожжи, а чуя дорогу, не спешил и почти не раскачивал бричку. Иногда он глухо ступал на перехлестнувший дорогу корень старой сосны, и удар этот пусто уходил по корневищу в лес и там отдавался в темноте, тоже глухо, но внятно.
В стороне зашумели сучья и послышались шаги. Кто-то шумно дышал на опушке, словно за ним гнались. Потом он остановился и долго стоял. Потом тихо, ласково проговорил: «Гу-у…» И чувствовалось, что человек произносит это, наклонившись к земле, сложив ладони вокруг рта, и говорит не кому-нибудь, а просто так, тишине и лесу.
«Колька, — подумал Никита, — места ему нынче на свете нет. Ночи не прожить. Не знает, телепень, что самое у него сейчас дорогое время».
Никита улыбнулся. На опушке ударил выстрел. За ним — второй. И не послышалось больше никакого движения, только можно было различить, что щелкнула переламываемая двустволка.
«В небо палит, — улыбнулся Никита. — Терпежу нет. В месяц палить готов».
Никита устроился поудобней, закрыл глаза и так поехал дальше, размышляя о том да о сем и припоминая, как сам он когда-то томился счастьем перед свадьбой. Так он ехал долго, пока не почувствовал в воздухе запах дыма, легкого, осинового, холодного. Открыл глаза. Бричка шла, под гору, дорогой вдоль жнива, к узеньким оконным огонькам большой избы.