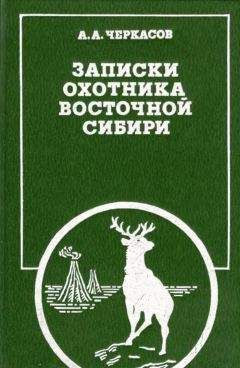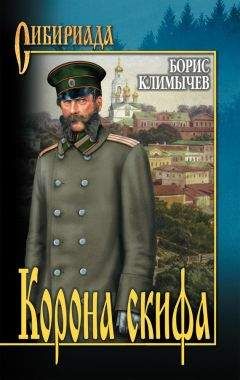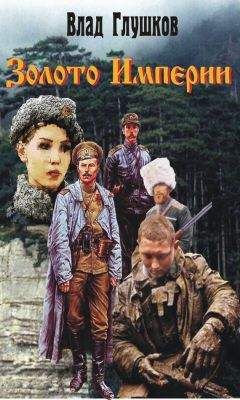Так как рабочих зимовеек было несколько штук, кажется 8 или 9, то в них остались люди, чтоб протопить свои помещения и наблюсти за инструментом. Да проводить покойника всем не было и надобности, а у многих и желания выходить за несколько верст и тесниться в нашем зимовье; что они, конечно, хорошо и сделали — горю не пособишь, а себе досадишь.
Отличный морозный вечер давал себя знать на улице, и потому все пришедшие заявились ужинать в наше зимовье, и нам, хозяевам, пришлось по возможности потесниться и радушно принять гостей. Но, по пословице «Не взяла бы лихота, не возьмет теснота» мы так удобно разместились, что место нашлось всем, а в случае надобности отыскалось бы помещение и «городничему». По обыкновению, после ужина пошли толки, суждения, рассказы, и так как злобой дня был случай смерти, то все повествования вертелись около этой темы и на первом плане толковалось о покойниках; говорилось все, кто чего видел на своем веку, кто чего слышал от стариков, за давно прошедшее время, канувшее в Лету забвения. Много тут было рассказов крайне курьезных и невероятных, а много и таких, что минувшие события потрясали всю душу и шишом становились волосы, особенно при окружающей угрюмой обстановке таежной жизни. Все до того были возбуждены, что отпечатки повествований рисовались на вытянутых физиономиях слушателей, а некоторые рабочие даже прятались за своих товарищей и тряслись от страха. Тут и я, грешный человек, подсыпал немало, передавая некоторые замечательные исторические события и схваченное из жизни своих предков. Словом, экзальтация настроения общества собеседников доходила до апогея, и у многих навертывались слезы сочувствия или невольного страха.
Вдруг встает мой Михаила и говорит:
— Все это пустяки, господа! Бояться нечего. Ничего особенного на свете нет; как нет ни черта, никакой чертовщины!
— Как нет черта! — послышалось с разных концов.
— Да так! Нет, и только! А покойники не ходят! — возразил Михайло.
— Послушай-ка, Митрич! Как же нет черта, когда и в священном писании говорится, что есть. Я и на библейских картинках видал изображение сатаны! А кто соблазнял Спасителя на высокой горе? — говорил обазартившнсь Тетерин.
— Я этому, брат, не верю! Ай в Библии мало ли чего нарисуют. Ведь картины-то писали такие же люди, как и мы с тобой! — возражал и кипятился Михайло.
— Как не мы! Ты, брат, о покойниках говори, что хочешь, я об этом не знаю и не спорю, а что касается священного писания, то об этом не смей и толковать! Понял? Вот что я тебе скажу, друг любезный!..
— Ну, ладно, ладно! Это оставим, а что покойников бояться нечего.
— Да ты только хвастуешь, а вот докажи это на деле — сходи к Матафонову! — предложил раскрасневшийся Тетерин.
— А что за беда, эку штуку выдумал, сходить к Матафонову! Изволь, схожу.
— А чем докажешь, что был у покойника?
— Да чем, давай хоть сажей лоб ему вымараю.
— Ну, нет: это, брат, грех! А вот принеси два огарочка восковых свечек, которые лежат под изголовьем, у самого полена, под шеей. Я знаю, что во всей нашей тайге нет больше ни одного огарка. Вот этим докажешь, что был и не боишься, а хвастать-то нехитро!..
Все молчали и слушали распетушившихся спорщиков.
— Ну, а что дашь? — сказал Михайло. — А то так не пойду, не стоит трудиться.
— То-то, не стоит! Верно, пробка захлябала! Ну, изволь — рубль дам, коли сходишь; а не сходишь — с тебя рубль. Понял? — спросил Тетерин и полез в карман.
Михайло, ни слова не говоря, вынул рубль и сказал:
— Ладно, идет по рублю; давай деньги заруки! Барин, примите, пожалуйста, деньги, — обратился он ко мне.
Я взял два рубля, а Михайло, не торопясь, снял со своего места шубу, накинул ее на плечи, надернул шапку и пошел из зимовья.
Был уже поздний вечер, далеко за полночь. До бани, где лежал покойник, считали около версты по таежной тропинке, пробитой среди дремучего леса. Все присутствующие молчали, и только некоторые уговаривали Михайлу не ходить, но он их не слушал и поковылял по дорожке. Я вышел за ним и посмотрел за тем, чтобы кто-нибудь не вздумал пугать, и потому сказал всем присутствующим, чтоб никто не смел этого делать, когда уже Михайло скрылся за лесом. Многие стояли на улице, тупо смотрели вслед за Михайлой, и воцарилась такая тишина, что сначала слышались только шаги удалявшегося Михаилы, а когда они затихли, то на горах шумел один ветер, и этот особый гул как-то неприятно действовал на нервы, — точно мы в первый раз его слышали.
Мы все воротились в зимовье, расселись по своим местам, и только некоторые таинственно шептались между собою. Я посмотрел на часы и закурил трубку. Тетерина трясла лихорадка, и он то и дело посматривал в крохотное оконце. Прошло уже более двадцати минут, а Михаилы все не было. Вот и 25, а его нет.
— Уж не случилось ли чего-нибудь? — тихо проговорил Тетерин.
— А вот подождем еще маленько, ведь тропка-то лесом, идти неловко, — сказал я и снова поглядел на часы.
Прошло и еще десять минут, а Михаилы нет. Я уже хотел одеваться и идти с кем-нибудь сам, — как кто-то сказал: «Идет».
— Идет, идет! — подхватили многие и лезли к оконцу. Действительно, снег похрустывал и послышались уже явственно неторопливые шаги Митрича, а затем отворилась дверь, и он вошел в зимовье. Все расступились, дали дорогу, и многие рабочие сказали: «Ну, молодец! Михайло Митрич!»
— На! — сказал Михайло и подал два восковых огарочка Тетерину.
— Не трус же ты и есть, как посмотрю я на тебя!.. — проговорил Тетерин и обнял Михаилу.
— Отчего так долго ходил? — спросил я.
— Да чего, барин! Он сказал, что огарки лежат под головой, а я шарил, шарил — их там нет; зажег уже спичку да углядел их на той стороне, за покойником, под полешком.
— Точно, точно, — подхватил Тетерин, — я ведь и забыл, что давеча переложил их, как прочитал над усопшим молитву.
Я подал два рубля Михаиле и, признаюсь, читатель, немало удивился его поступку; а что касается до меня лично, то ни за какие бы миллионы не сделал этого похода, особенно после тех разговоров, которые слышались в нашей беседе, перед спором Михаилы с Тетериным…
— Что же тебя оторопь не брала, когда доставал огарки через покойника? — спросил Макаров.
— Нет, не брала, я ведь привычный и не один раз читывал по усопшим; вот и сегодня почитал бы над Матафоновым, так псалтыря нет, да и холодно в зимовьюшке. А вот как отправился я назад, то удрог маленько; потому что, захлопнув дверь, я уже пошел, а она вдруг отворилась… Пришлось воротиться и задавнуть ее с веткой, которую и сорвал тут же с лесинки. Вот в это время ободрало мало-мало: подумалось, уж не он ли вышел! А то ничего…