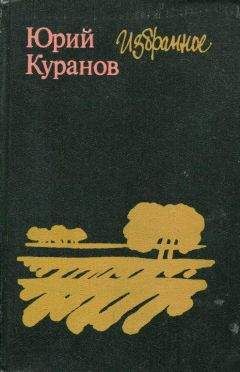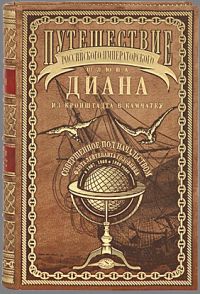Вернулся я в Псков буквально за день до передачи, позвонил в Опочку, попросил райком партии, моего давнего знакомого, первого секретаря Иванова Александра Ивановича. Александр Иванович довольно грустным голосом сказал мне, что Виктор Васильевич в Пскове и лежит в онкологической клинике. Я тут же позвонил в клинику и попросил дежурного врача передать Васильеву, что завтра в девять часов утра по Всесоюзному радио будет передача о его хозяйстве и о нем самом. Но решиться пойти к Васильеву сразу, в этот же день, я не смог. Пришел я к нему дня через два.
Я пришел к Васильеву в это здание, одно приближение к которому, во всяком случае новичка, не особенно-то радует. Но люди как люди. Все здесь спокойны, деловиты, обыденны и даже временами, как и во всяком другом заведении, грубоваты. Хотя, казалось бы, само собою разумеется, что здесь-то обстановка должна быть гораздо бережнее и даже ласковее, чем где бы то ни было. Но и больные здесь такие же, как и везде, в меру озабочены, в меру беспечны, рассказывают анекдоты, где-то даже играют в домино. Жизнь есть жизнь. Я не заметил здесь только курильщиков. Значит, все-таки можно бросить эту заразную привычку, когда подопрет смертельная опасность. А ведь не лучше ли было бы сделать это раньше, не под страхом близкой смерти, когда, может быть, уже поздно. Впрочем, думаю, где-то курильщики были и тут, просто я их не видел…
Васильева здесь уже хорошо знали. Он только что вернулся из процедурной. Его окликнули. Виктор Васильевич вышел из палаты, и я растерялся. Из-за полустеклянной двери вышел огромный поправившийся и порозовевший Васильев. Он провел меня в небольшую хозяйственную комнатку, затворил раскрытое окно, сел на табуретку, мне предложил сесть. Он и здесь чувствовал себя основательно, хозяином положения.
— Что говорят? — спросил я.
— Плеврит. Плеврит с каким-то длинным названием, его не то что запомнить, а и выговорить трудно, — улыбнулся Васильев. — Я забыл название. Запустил я его сильно. Если бы, говорят, сразу пошел к врачу, дней сорок всего полечился бы. А я вот тогда и в Опочке даже не вылежался. Теперь обещают не меньше четырех месяцев. Давали они мне книжечку почитать об этой болезни, так там написано, что ее по году и более лечат.
— Ну а как вы себя сейчас чувствуете?
— Сейчас лучше. Из меня, знаете, литра два или три гноя выкачали. Из легкого. Так запустил. И сейчас дышу только верхушкой, а бок весь как-то скован. Словно кол в левый бок всадили. А так кровь, говорят, хорошая, туберкулеза нет.
Поговорили о Глубоком, о погоде, о делах вообще. Виктор Васильевич вспомнил, что так и не добрался до клубной лестницы. Действительно, когда-то великолепная деревянная лестница от подножия холма до крыльца клубного разваливалась. И все не доходили до нее руки.
— Вот сухой штукатуркой мы клуб уже обили. Теперь вот выйду отсюда, горячая пора прошла — и за лестницу возьмемся. — Виктор Васильевич весь оживился и о чем-то легко и как-то радостно задумался.
Он совершенно не был сейчас похож на больного человека. Отдохнувший, уверенный в себе, розовый и покрепчавший, он выглядел богатырем. Только в груди у него шипело и посвистывало.
— А ведь меня сначала в областную больницу направили, — вдруг посмотрел он на меня, как бы отвечая на мой законный, но пока не задаваемый вопрос. — Мест там не оказалось. Тогда в госпиталь. Госпиталь не принял. Все-таки я человек не военный. И только тут в то время места были. А ждать, сами знаете, некогда. Чувствовал я себя плохо. Сюда и поместили. Да вроде отсюда, говорят, и увозить-то теперь на короткое время смысла нет. А лечение и медикаменты здесь лучше, чем в другом каком месте. Так что вот здесь пока и отлежу.
Я сказал, что получил разрешение на съемки фильма о Глубоком. Васильев обрадовался, предложил зимой снять свадьбу.
— На тройках, Юрий Николаевич, снимем. У нас отличные кони есть. Такие тройки вам запряжем! По снегу, по морозцу полетят. Куда с добром! А лестницу починим. И молодые по новой лестнице в свадебных нарядах спускаться будут. А внизу машины их ждут, поезд свадебный. А клуб разрисуем. Только вы хорошего нам художника подыскивайте…
— Насчет художника не беспокойтесь, — успокоил я.
— А деньги мы, сколько нужно, для художника выделим. Нужно тысячу — тысячу дадим, нужно полторы — полторы выделим. Сколько понадобится. Вот бы только поскорее отсюда выбраться. К праздникам к Октябрьским вроде обещали отпустить. Дома долечиваться буду.
— Что вам принести, Виктор Васильевич? Что нужно?
— Ничего не надо. Все у меня есть. Жена через день приезжает. Из райкома, из треста навещают. Директора совхозов — уже человек шесть побывало. Все чего-нибудь несут. А вот если книжку хорошую принесете, хорошо бы.
В коридоре послышались шаги, оживление.
— Пока мы с вами разговаривали, там операцию делали, — сказал Васильев, прислушиваясь, — одного в начальной форме рака оперируют. Жалко беднягу. Кстати, мой врач там, — добавил Виктор Васильевич, — если хотите, можете с ним поговорить. Он сам вам все расскажет.
Через две минуты я стоял на лестничной площадке за дверью хирургического отделения и тревожно смотрел в усталое и деловитое лицо довольно молодого человека, лечащего врача Куликова.
— Вы кто ему? — спросил Куликов.
— Никто. Мы даже, в общем-то, и друзьями не были. Я просто очень уважаю этого человека, он спас от развала огромное хозяйство.
— Я знаю, — сказал невесело Куликов, — о нем много хорошего говорят. У него рак.
— Надежда есть?
— Нет. У него самая плохая форма, запущенная к тому же. От курения. Метастазы уже пошли в верхушку легкого.
— А сколько он продержится?
— Ничего сказать сейчас нельзя. Все будет зависеть от того, какое течение примет процесс. Боли мы ему сняли, кое-что поправили.
— Практически вы сейчас боретесь только за то, чтобы продлить ему жизнь?
— Да. Большего сделать мы не в силах.
На другой день я принес Виктору Васильевичу толстый том о разных международных шпионах. Книгу редкую и особо читаемую — «Пять столетий тайной войны».
Сам я читать ее не смог из глубокого и стойкого чувства неприятия. А тут в качестве отвлекающего лекарства использовал я приключения этих людей, всю жизнь пресмыкавшихся во лжи, обманывавших не только врагов, но и друзей, глумившихся над всеми самыми высокими добродетелями человеческой натуры, превративших доверчивость, непорочность и простодушие в оружие против человека и сделавших предательство своей профессией. Но есть страшная и притягательная сила в жутких злоключениях их полной поучительностей жизни. Однако сам я коснуться содержания этой книги так и не смог.