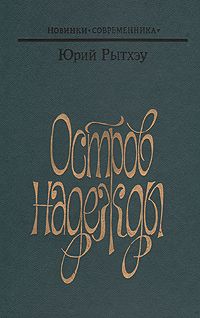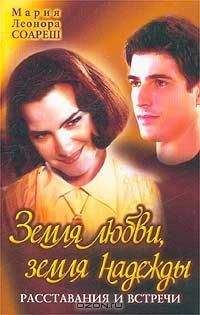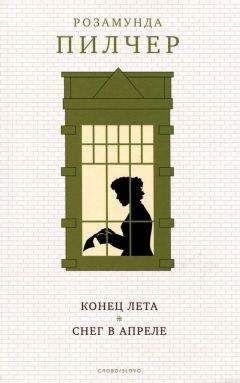Перевал прошли в густом тумане и моросящем дожде. Шагавший впереди Скури хин возгласом: «Вода течет на север!» — возвестил о том, что подъем закончился и дальше начинается пологий спуск на северное побережье острова.
Каждый вечер, занося в дневник впечатления прошедшего дня, Ушаков ловил на себе пытливый взгляд Кивьяны и его молчаливый вопрос: «Какой смысл?» Действительно — какой смысл? Нет никакой жизненной необходимости изнурять людей, подвергать их лишениям только потому, что первая экспедиция оказалась плохо подготовленной. Надо иметь мужество не только преодолевать препятствия, но и сознаваться в своих промахах.
Продуктов оставалось совсем мало. Охота была неудачной: дичи почти не было, гуси давно улетели, а полярные совы оказались не только слишком пугливыми, но и запретными для эскимосов. «Лучше я умру, чем дотронусь до мяса этой птицы», — сказал Таян, когда Скурихин хотел подстрелить сову. Подбитая из винчестера одинокая чайка только разожгла аппетит.
На четвертый день пути Кивьяна нагнулся и сказал:
— Море близко.
Он показал Ушакову отполированную волнами морскую гальку и с шумом втянул носом воздух:
— Слышишь? Морем пахнет.
Да, это было море. Ушаков внутренне ликовал: несмотря на великие трудности и лишения, цель достигнута!
В обратный путь пустились двадцать первого сентября в мутном молоке тумана. Идти было намного легче, не только потому, что ноша сильно уменьшилась, но и от мысли, что идешь домой.
У подножия гор разбили палатку и поужинали банкой мясных консервов — одной на всех, и каждому еще досталось по две галеты. Еда была весьма скудной для такого тяжкого, изнурительного путешествия.
Утро не обещало никаких изменений. Такой же сырой и плотный туман, от прикосновения к которому кожа покрывалась липкой, противной влагой.
Не хотелось вставать идти дальше. Ушаков долго не мог стряхнуть с себя остатки сна, вслушиваясь сквозь дремоту в приглушенный разговор товарищей, в шум примуса, на котором кипел чай. Но вставать надо. Надо разделить скудный завтрак, состоящий из двух плоских и твердых, как фанера, галетин, проложенных тонким слоем мясных консервов.
По сложившемуся ритуалу, прежде чем сворачивать палатку и отправляться в путь, следовало выкурить последнюю трубку.
Кивьяна выполз из палатки, чуть не опрокинув примус. Но едва его ноги в раскисших, вот уже которые сутки не высыхающих торбазах, скрылись из виду, как он тут же пырнул обратно с выпученными от страха глазами.
— Суфлювок! — выдохнул он.
— Винчестер! — вскрикнул Таян и, схватив лежащее всегда наготове оружие, выскочил из палатки.
По другому берегу ручья совершенно спокойно, искоса поглядывая на суетящихся людей, шел белый медведь. Он настолько был уверен в себе, что даже остановился и некоторое время с презрением смотрел на них, щелкающих затворами. Но вот он взглянул словно бы с удивлением и… рухнул.
Это был двухгодовалый самец.
Кивьяна, бесцеремонно оттеснив остальных, вынул нож и подошел к поверженному зверю. Скурихин, тоже с ножом в руках, поспешил на помощь, но эскимос оттолкнул его.
— Ты что? — он удивленно посмотрел на Кивьяну. — Я же хочу помочь.
— Не надо помогать, — сказал Таян. — Медведь принадлежит Кивьяне.
— Это по какому такому праву? — сердито спросил Скурихин.
— Таков обычай, — коротко ответил Таян с таким видом, будто и Скурихин и Ушаков хорошо знали об эскимосских охотничьих правилах.
— Нет, ты нам объясни, почему медведь принадлежит Кивьяне? — попросил Ушаков.
— У нас так считается, — начал Таян, — добыча принадлежит тому, кто первый увидел: будь это медведь или кит.
— Странно! — пробормотал Скурихин, явно не собираясь уступать. Он снова подошел к медведю с ножом.
— Подожди, — остановил его Ушаков. — Не будем спорить. Главное, теперь у нас есть мясо.
— Мясо мясом, но пусть он отдаст мне хотя бы горловину и язык, — продолжал настаивать Скурихин.
— Это никак невозможно, — сказал Таян. — Кивьяне очень нужна голова, потому что он будет разговаривать с ней. В старину мы голову отрезали, а теперь нет. Потому что шкура без головы плохая, ее не покупают. Нынче голову оставляют вместе со шкурой, а потом, после разговора, обдирают череп.
— Неужто мы согласимся с этой чертовщиной? — Скурихин с надеждой посмотрел на начальника.
— Ничего не поделаешь, — пожал плечами Ушаков. — Давай-ка лучше готовь большую кастрюлю да разжигай примус.
Медвежье мясо было необыкновенно вкусным и сочным. Возможно, это им только казалось, ведь последние дни они почти ничего не ели. Сил сразу прибавилось, а мяса им теперь хватит до самого поселения.
Добытчик сгибался под грузом медвежьей шкуры и лакомых кусков, но не показывал, что ему тяжело. Он шагал, напевая про себя что-то веселое, очевидно имеющее прямое отношение к неслыханной удаче. Убить первого медведя на незнакомом острове — это хороший признак, и сородичи непременно выразят ему похвалу. Кроме того, надо будет устроить угощение, чтобы всем досталось хотя бы по куску. Потому и ноша у Кивьяны была тяжела, но радостна.
Вскоре кончился керосин, и последнюю горячую трапезу пришлось ограничить полусваренным мясом. Для эскимосов это было привычно, но Ушаков с трудом проглотил несколько кусков и решил в будущем обходиться галетами, пока не появится возможность сварить мясо на берегу, где можно набрать плавника.
А сырость продолжала донимать. Уж лучше бы хороший мороз, но только не эта всепроникающая влага, от которой не было никакого спасения.
Ушаков шагал впереди своего маленького отряда. Время от времени он останавливался, поджидая отставших. Тяжелее всех приходилось Кивьяне, который ни за что не хотел облегчить свою ношу.
Незаметно для остальных членов экспедиции Ушаков старался держаться так, чтобы выйти к морю, где можно набрать дров, хотя дорога через горы могла быть короче и, следуя ей, можно было выйти прямо на поселение. Но хватит ли сил?
Двадцать третьего сентября, когда уже казалось, что нельзя сделать и шагу, около часу дня туман рассеялся, и впереди открылось море. На галечном берегу они быстро собрали плавник и разожгли костер.
Ушаков поднялся на возвышение и дал несколько выстрелов в надежде, что в поселении их услышат и вышлют подмогу.
Не прошло и часу, как к путникам подъехала байдара. Все заторопились в нее, кроме Кивьяны.
— А ты почему не садишься? — спросил Скурихин.
— Это чужая, не моя байдара, — объяснил Кивьяна. — Как я могу с моим гостем сесть на нее? Это неуважение к нему. Он может рассердиться.