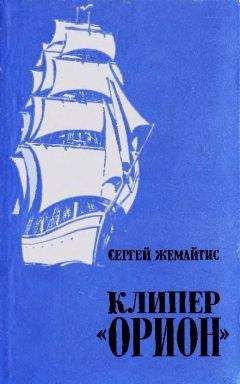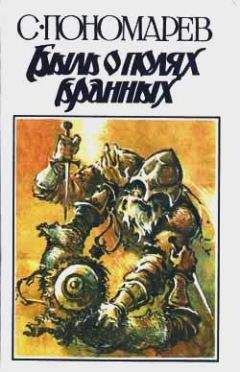— Мне нравится ваша прямота. Похвально! Вы достойный противник и верный друг.
Новиков усмехнулся.
Барон, глядя в иллюминатор, не видел этой усмешки и продолжал, поощренный его молчанием:
— Наши разногласия и мелкие ссоры — результат нервного состояния. У меня лично никогда не были так напряжены нервы, как сейчас. Даже в самые страшные минуты!
— Все это лирика, барон. И так как теперь работают на нас силы, которыми мы не можем руководить, — он поднял палец, — ее величество судьба, то не плохо бы нам выпить за успех…
В это время над головой послышался топот, встревоженные голоса матросов, вызывавших доктора.
Новиков приоткрыл дверь и позвал вестового. Чирков не отозвался.
— Чирков! — рявкнул Новиков. И, опять не получив никакого ответа, сказал: — Он там, на месте происшествия.
Барон фон Гиллер нервно потер руки и сказал:
— Да, вашим людям можно иногда доверять. Кажется, удалось, если…
— Что «если»?
— Если его не положат в радиокаюту.
— Не бойтесь, у нас прекрасный лазарет. Вы сами могли убедиться в этом.
— Да, но мне думалось, что только для офицеров.
— Перед болезнью и смертью все равны.
Фон Гиллер сделал неодобрительную гримасу и положил руку Новикову на плечо:
— Помните, дорогой артиллериум офицер, что люди не равны — вот истина, которую не понимают социалисты. Только четкая грань между людьми приводит к порядку и счастью.
Новиков снял его руку со своего плеча:
— И я за порядок, против хаоса и беззакония, поэтому иду на все тяжкие и вот ввязался с вами в сомнительную авантюру.
— Никаких сомнений! Сомнения — яд! Они лишали силы титанов. Все будет отлично! Только — никаких сомнений. — Гиллер заходил по каюте, сжимая бороду в руке. Остановился и, вперив взгляд в своего собеседника, проговорил, прислушиваясь к шуму на палубе: — Пройдет немного времени, и вы поймете все значение наших с вами усилий, первых шагов на пути к достижению великой цели.
— Оставьте, барон, ваш тон чревовещателя и «великие цели». Цель у нас пока далеко не великая — изуродовать весьма приличного человека.
— Приличного? Он или еврей, или у него предками были евреи. Поверьте мне!
— А вы можете поручиться за своих прабабушек?
— Что за вопрос? Неужели вы не считаете., бестактным бросать, пусть даже в шутку, такие обвинения?
— Ах, оставьте, барон. — Новиков прислушался к шагам на палубе: — Кажется, мы сделали паше черное дело. — Он выглянул в дверь. Мимо проходил бодрой походкой вестовой командира клипера.
— Феклин!
— Я, ваше благородие! — весело ответил вестовой, упирая на «ваше благородие», и добавил совсем панибратски: — Здравия желаю! Погодка — лето летнее. По нашим местам только сохи готовят, а тут хоть урожай собирай.
— Ладно, сохи… Ты моего остолопа не видел?
— Харитона Чиркова?
— Как будто не знаешь, о ком спрашиваю. Где он? Пошли его ко мне немедленно!
— Есть! Да только он в лазарете сейчас.
— Что он там делает?
— Малость варом задело. Брызги, сами знаете, от вара, если прилипнут, только с кожей отстанут. Да вы не бойтесь, у него пустяк, меня вон тоже задело, да я только поплевал на локоть, а его бинтуют. Другому больше попало, все ноги обдало.
— Кому?
Артиллерийский офицер был первым слушателем, которому Феклин рассказывал о происшествии на баке, и потому старался передать все как можно точнее.
«Хоть и с душком их благородие, — подумал матрос, — а вот остановил, расспрашивает по-хорошему, и то правда сказать, какое ему утешение от этого чернобородого немца-зануды, ишь как глаза на меня пялит и зубами сверкает».
— Заходи в каюту и говори, только короче.
— Можно и покороче, — с обидой сказал Феклин. — Нам как вам угодно, короче так короче. От длинноты, конечно, какой толк, ваше благородие, одна трескотня.
— Ну?
— Если короче хотите, так его варом ошпарили, ваше благородие. Ну как водится после конопатки, вар разогрели. Народу на баке, сами знаете, как на сходе, да тут еще нашего Германа Ивановича позвали, он лясы точит про всякие новости, про земельный, значит, декрет да про окончание войны, какая, значит, жизнь настанет для нашего брата.
— Хватит про жизнь. Сильно ошпарили?
— По первое число. Хоть на руках теперь ходи. Грызлов, стало быть, нес котел, хотя не его это унтер-церское дело, у Гаврикова отнял и сам понес. Ну и споткнулся, вар-то и на палубу, кому на ножки, вот мне на руку.
— Хорошо, Феклин, иди. Только непонятно мне, почему у тебя такая рожа веселая? Твоего первого дружка-приятеля в лазарет снесли, ноги обварили, а ты, как именинник, весел?
— О каком вы дружке, ваше благородие?
— Конечно, о кондукторе Лебеде. Жаль человека, он способный, как теперь мы будем жить без его новостей.
Феклин залился смехом:
— Ну, ваше благородие, скажете тоже! Кто это вам наклепал такую напраслину? Герману Ивановичу хоть бы хны! Ведь Грызлов, когда споткнулся на ровном месте и котел с варом стал ронять на Германа Ивановича, а Трушин как пнет котел ногой, да прямо на Бревешкина. Ух к взвыл младший боцман! Заматерился так, что наши полегли было, а потом глядят: у него со штанами кожа с коленок сходит. Заплакал, и так жалостливо, прямо по-человечески и говорит: «Так мне и надо, свинье собачьей, верблюжьему выродку, сучьему потроху». Ну мы его взяли и, как малое дите, отнесли в лазарет. Вот так оно случилось, а вы — Лебедь! За Лебедя мы во как стоим! Да если бы Грызлов, не дай бог, на него вылил, то растоптали бы в лепешку — и за борт. Так что разрешите идти, ваше благородие?
— Постой! Так и сказал «сучий потрох»?
— Не только, «потрох» — самое, так сказать, нежное у него слово. Совесть, видно, пробудилась, письмо, к Бульдожке вспомнил!
— В этом не его вина.
— Как не его? Весь клипер знает про письмо.
— Он действовал по моему приказу. Я за все и отвечаю. Письмо писал я! Понял?
— Как не понять. Разрешите идти?
— Постой. — Артиллерийский офицер помолчал, покусывая тонкие губы. — Видишь ли, брат, я знаю, что говорят про меня среди матросов, не все, конечно, но разговор идет, что я чуть не предал клипер, и не могут понять, что я хотел избавить вас от длительного ненужного похода, вернуть в Россию самым коротким путем.
— Теперь Россия России — рознь, — сказал Феклин и посмотрел на немца. Барон фон Гиллер, развалившись на диване и брезгливо поджав губы, смотрел в иллюминатор.
— Я хочу, чтобы розни не было, — сказал Новиков и тоже покосился на барона.
— И мы за то. Кому нужны рознь да свара? Да только дело это наше, не английское, сами и разберемся.