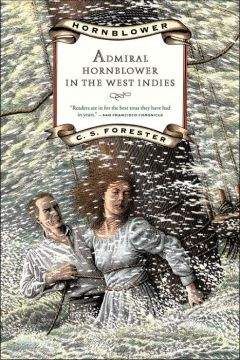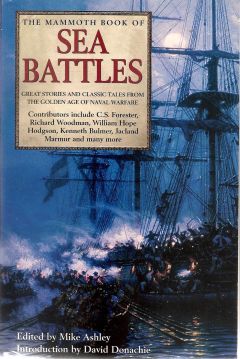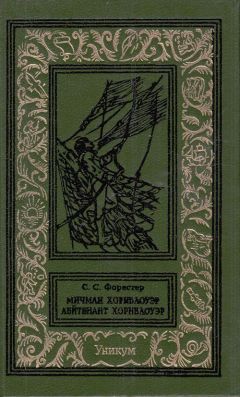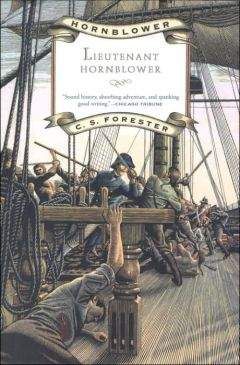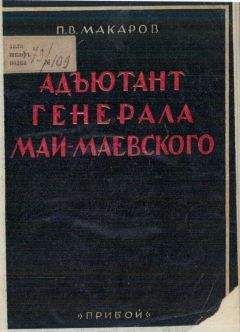Так и случилось – ванта просто исчезла из-под ножа, ветер подхватил все пятьдесят футов ее длины и увлек прочь из его мира, оставив ее, скорее всего, развевающееся на грот-мачте словно узкий вымпел. Он принялся за следующую, пиля ее в промежутках между захлестывающими валами. Он то резал, то повисал, пытался ухватить глоток воздуха среди непроницаемой стены брызг, захлебывался и задыхался под потоками зеленой воды, однако, ванты одна за другой уступали его усилиям. Нож затупился, и теперь у него появилась еще одна проблема: он перерезал почти все ванты, находившиеся поблизости, со стороны, ближней к корме, и ему нужно стало переменить позицию, чтобы переместиться к носу. Но как это сделать, он не знал.
Когда их накрыла следующая волна, он, еще будучи под водой, ощутил серию толчков, передавшихся через корпус корабля его стиснутым рукам: четыре послабее и один сильный. Когда вода схлынула, он смог увидеть, что произошло. Четыре оставшиеся ванты лопнули от натяжения: первая, вторая, третья, четвертая, а затем рухнула мачта: обернувшись, он увидел торчащий над палубой восьмифутовый обломок.
Перемена в поведении «Милашки Джейн» стала очевидной сразу же. Подъем на волну завершился всего лишь резким скольжением вниз, так как ревущий ветер, воздействуя на грот-мачту, заставил ее осесть на корму и поднять нос из моря, в то время как отсутствие высокой фок-мачты уменьшало амплитуду всхождения на волну в любом случае. Тем количеством и той силой потока воды, который обрушился на голову Хорнблауэра можно было практически пренебречь. Теперь он мог отдышаться и оглядеться. Он заметил еще кое-что: фок-мачта, все еще соединенная с судном вантами подветренного борта, плыла рядом с кораблем, повернувшись к нему топом, в то время как нижнюю часть относило назад под воздействием ветра. Она действовала как плавучий якорь, что лишь отчасти ограничивало непредсказуемость ее движений, более того, так как она была прикреплена к левому борту, судно немного повернулось в эту сторону, и оказалось обращенным к волнам левой скулой, что для него являлось лучшим углом для всхождения на них, с плавным подъемом и продолжительным спуском. У «Милашки Джейн», даже заполненной водой, был еще шанс, и Хорнблауэр, находясь на баке, с правой стороны судна, мог чувствовать себя в относительной безопасности и взирал на дело рук своих с определенного рода гордостью.
Он бросил взгляд на жалкую кучку людей, скопившуюся вокруг грот-мачты, штурвала и нактоуза. Барбару, находившуюся в группе у грот-мачты, разглядеть не удавалось, так как ее закрывали другие люди, стоявшие там. Он с внезапным волнением ощутил, что грядущие беды могут коснуться ее. Он начал уже отвязывать себя, чтобы вернуться к ней, когда внезапное воспоминание всплыло в его уме с такой силой, что он застыл, с безразличием глядя на корабль и прекратив развязывать узел. Барбара поцеловала его, там, в затишье снесенной уже рубки. И она сказала – Хорнблауэр хорошо помнил, что она сказала, это хранилось в его памяти до этого момента, ожидая мига, когда наступит краткая передышка в необходимости постоянно производить какие-то решительные действия. Она не просто сказала, что любит его, она сказала, что никогда не любила никого, кроме него. Скрючившись на палубе полузатопленного корабля, Хорнблауэр вдруг почувствовал, что его старая рана исцелилась, что ту тупую боль, вызванную ревностью при мысли о первом муже Барбары, ему уже никогда не придется испытать вновь. Никогда, до тех пор, пока он жив.
Этого оказалось достаточно, чтобы вернуть его к реальному положению дел. Оставшаяся часть его жизнь могла исчисляться часами. Скорее всего, он умрет, если не с наступлением темноты, то в лучшем случае с рассветом. И Барбара тоже. Барбара тоже. Лишенное смысла ощущение счастья, зародившееся в нем, мгновенно испарилось, сменившись чувством отчаяния и горем, почти совершенно заполонившими его. Ему пришлось собрать всю силу воли, чтобы подчинить себе как немощное тело, так и измученный ум. А нужно было действовать и думать, как если бы он был полон сил и не испытывал отчаяния. Ощущение, что к его запястью по-прежнему привязан нож, пробудило в нем чувство презрения к себе, которое как всегда, действовало безотказно: он разрезал трос и для безопасности убрал нож в чехол, приготовившись изучать поведение «Милашки Джейн».
Отцепившись, он бросился к грот-мачте. Ужасный ветер мог утащить его к корме и увлечь за борт, но возвышение на корме позволило ему замедлить свое движение в степени, достаточной для того, чтобы подскочить к группе людей у грот-мачты и ухватиться за один из линей. Люди, находившиеся там, безразлично свисая на удерживающих их веревках, едва удостоили его взглядом и не пошевелили даже пальцем, чтобы помочь ему. Барбара, мокрые волосы которой развевались на ветру, улыбнулась и помахала ему рукой. Он пробрался через кучку людей, стоявших поблизости от нее и привязался с ней рядом. Ее рука снова была в его руке, и, пожав ее, он почувствовал ответное пожатие. Теперь делать было нечего, только выживать.
Частью такого выживания было не думать о жажде, по мере того, как день клонился к вечеру, и желтоватый свет дня сменился темнотой ночи. Это было нелегко, с тех пор как в один момент он понял, насколько ему хочется пить, а теперь его мучила еще и мысль о том, что Барбара страдает от этого также сильно. С этим ничего нельзя было поделать, только стоять в своих путах и разделять с ней эту пытку. С наступлением ночи, тем не менее, ветер утратил тот жар, в котором можно было обжигать кирпич, и стал даже почти холодным, так что Хорнблауэр начал слегка дрожать. Развернувшись в своих узах, он обнял Барбару и прижался к ней поплотнее, чтобы сохранить тепло. В течение ночи его беспокоило поведение его ближайшего соседа, который постоянно наваливался на него, все сильнее и сильнее, вынуждая Хорнблауэра время от времени отнимать руку от Барбары и энергично отбрасывать его назад. После третьего или четвертого такого толчка он услышал, как человек безвольно завалился назад, и заподозрил, что тот мертв. Благодаря этому у мачты освободилось дополнительное пространство, и он смог расположиться прямо напротив Барбары, так что та могла откинуться назад, а он поддерживал ее за плечи. О том, что для нее это существенная помощь, Хорнблауэр мог догадаться, судя по невыносимым судорогам, сводившим его собственные ноги, и крайней усталости всех частей тела. У него появилось искушение, очень сильное искушение, поддаться, предоставить все течению событий, опуститься на палубу и умереть, как тот человек рядом с ним. Но он не мог: не столько из-за самого себя, сколько из-за своей жены, чья судьба находилась в его руках; не столько из-за гордыни, сколько из-за любви.