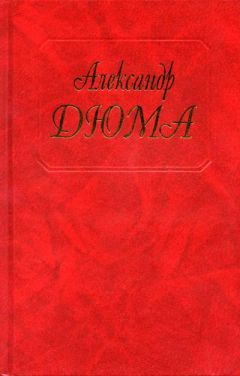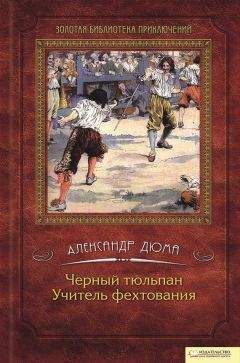— Ваше величество! — воскликнул Генрих, бросаясь к нему навстречу.
— Собственной персоной… Честное слово, Анрио, ты молодец! Я начинаю любить тебя все больше.
— Сир, ваше величество меня захвалили, — ответил Генрих.
— У тебя только один недостаток, Анрио.
— Какой? Уж не тот ли, в котором вы не однажды упрекали меня, — что я предпочитаю соколиной охоте охоту с гончими?
— Нет-нет, Анрио; я говорю не об этом.
— Если вы, ваше величество, объясните мне, в чем дело, я постараюсь исправиться, — ответил Генрих, увидав по улыбке Карла, что он в хорошем расположении духа.
— Дело в том, что у тебя хорошие глаза, а видишь ты ими плохо.
— Может быть, сир, я, сам того не зная, стал близорук?
— Хуже, Анрио, хуже: ты ослеп.
— Вон что! — удивился Беарнец. — Но может быть, это случается со мной, когда я закрываю глаза?
— Да-да! Ты так и делаешь, — сказал Карл. — Как бы то ни было, я их тебе открою.
— Господь сказал: «Да будет свет, и быть свету». Вы, ваше величество, являетесь представителем Бога на земле — следовательно, ваше величество может сотворить на земле то, что Бог творит на небе. Я слушаю.
— Когда вчера вечером Гиз сказал, что встретил твою жену в сопровождении какого-то волокиты, ты не хотел верить.
— Сир, — отвечал Генрих, — как же я мог поверить, что сестра вашего величества способна на такое безрассудство?
— Тогда он прямо указал, что твоя жена отправилась в переулок Клош-Персе, но этому ты тоже не поверил!
— А разве я мог предполагать, что принцесса Франции решится открыто поставить на карту свое доброе имя?
— Когда мы осаждали дом в переулке Клош-Персе и в меня попали серебряным кувшином, Анжу облили апельсиновым компотом, а Гиза угостили кабаньим окороком, — разве ты не видел там двух женщин и двух мужчин?
— Сир, я ничего не видел. Ваше величество, наверное, помнит, что в это время я допрашивал привратника.
— Зато я, черт подери, видел!
— A-а! Если вы, ваше величество, видели сами, то, конечно, это так.
— Да, я видел двух женщин и двух мужчин. Теперь для меня нет сомнений, что одна из этих женщин была Марго, а один из мужчин — Ла Моль.
— Однако если Ла Моль был в переулке Клош-Персе, значит, его не было здесь, — возразил Генрих.
— Да, его здесь не было, — сказал король. — Но сейчас вопрос не в том, кто был здесь, — это узнается, когда болван Морвель сможет говорить или писать. Вопрос в том, что Марго тебя обманывает.
— Пустяки! Не верьте сплетням, ваше величество, — ответил Генрих.
— Говорю тебе, что ты не близорук, а просто слеп. Смерть дьяволу! Поверь мне хоть один раз, упрямец! Говорят тебе, что Марго тебя обманывает, и мы сегодня вечером задушим предмет ее увлечения.
Генрих даже отпрянул от такой неожиданности и с изумлением посмотрел на Карла.
— Признайся, Анрио, что в глубине души ты не против этого. Марго, конечно, раскричится, как сто тысяч ворон; но тем хуже для нее. Я не хочу, чтобы тебе причиняли горе. Пусть Анжу наставляет рога принцу Конде — я закрываю глаза: Конде мне враг; а ты мне брат, больше того — друг.
— Но, ваше величество…
— И я не хочу, чтобы тебя притесняли, не хочу, чтобы над тобой издевались; довольно ты служил мишенью для насмешек всяких волокит, приезжающих сюда, чтобы подбирать крошки с нашего стола и увиваться вокруг наших жен. Пусть только посмеют заниматься таким делом, черт их возьми! Тебе изменили, Анрио — это может случиться со всяким, — но, клянусь, ты получишь удовлетворение, которое поразит всех, и завтра будут говорить: «Тысяча чертей! Король Карл, как видно, очень любит своего брата Анрио, если сегодня ночью заставил Ла Моля вытянуть язык».
— Сир, это дело решенное? — спросил Генрих.
— Решено и подписано. Этому щеголю нельзя пожаловаться на свою судьбу; исполнителями будем я, Анжу, Алансон и Гиз: один король, два принца крови и владетельный герцог, не считая тебя.
— Как — не считая меня?
— Ну да, ты-то ведь будешь с нами!
— Я?!
— Да. Мы будем его душить, а ты пырни его как следует кинжалом — по-королевски!
— Сир, я смущен вашей добротой, — ответил Генрих. — А откуда вы об этом узнали?
— A-а! Ни дна ему, ни покрышки! Говорят, он этим похвалялся. Он все время бегает к ней то в Лувре, то в переулок Клош-Персе. Они вместе сочиняют стихи: хотел бы я посмотреть на стихи этого фертика — какие-нибудь пасторальчики; болтают о Бионе и о Мосхе да перевертывают на все лады Дафниса и Коридона. Знаешь что, выбери у меня трехгранный кинжал получше…
— Сир, это надо обдумать… — сказал Генрих.
— Что?
— Вы, ваше величество, поймете, почему мне нельзя участвовать в этом деле. Мне кажется, что мое присутствие будет неприличным. Я лицо настолько заинтересованное, что мое личное участие в этом возмездии покажется жестокостью. Ваше величество мстит за честь сестры нахалу, оклеветавшему женщину своим бахвальством, — такая месть вполне естественна с вашей стороны и поэтому не опозорит Маргариту, которую я, сир, продолжаю считать невиновной. Но если в это дело вмешаюсь я, получится совсем другое: мое участие превратит акт правосудия в простую месть. Это будет уже не казнь, а убийство; жена моя окажется не жертвой клеветы, а женщиной виновной.
— Черт возьми! Ты, Генрих, златоуст! Я только что говорил матери, что ты умен, как дьявол.
И Карл доброжелательно взглянул на Генриха, благодарившего поклоном за этот комплимент.
— Как бы то ни было, но ты доволен, что тебя избавят от этого франтика?
— Все, что делает ваше величество, — благо, — ответил король Наваррский.
— Ну и отлично, предоставь мне сделать это дело за тебя и будь покоен — оно будет сделано не хуже.
— Я полагаюсь на вас, ваше величество, — ответил Генрих.
— Да! А в котором часу он обычно бывает у твоей жены?
— Часов в девять вечера.
— А уходит от нее?
— Раньше, чем прихожу к ней я, судя по тому, что я никогда его не застаю.
— Приблизительно когда?..
— Часов в одиннадцать.
— Хорошо! Сегодня ступай к ней в полночь; все будет уже кончено.
Сердечно пожав Генриху руку и еще раз пообещав ему свою дружбу, Карл вышел, насвистывая любимую охотничью песенку.
— Святая пятница! — сказал Беарнец, провожая глазами Карла. — Весь этот дьявольский замысел исходит не иначе как от королевы-матери; она только и думает о том, как бы поссорить нас, меня и мою жену, — такую милую чету!
И Генрих рассмеялся, как смеялся лишь тогда, когда его никто не видел и не слышал.
Часов в семь вечера красивый молодой человек принял ванну, выщипал портившие лицо волоски и, напевая песенку, стал самодовольно прогуливаться перед зеркалом в одной из комнат Лувра. Рядом спал или, вернее сказать, потягивался на постели другой молодой человек. Один был тот самый Ла Моль, о котором так много говорили в этот день, другой — его друг Коконнас.