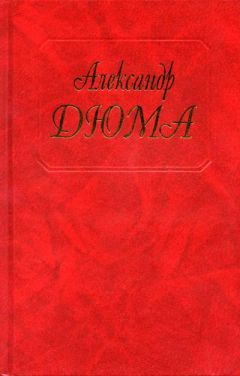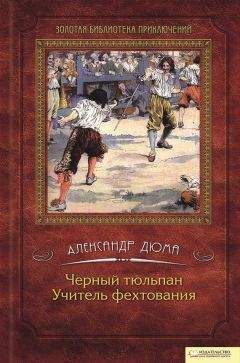И Генрих рассмеялся, как смеялся лишь тогда, когда его никто не видел и не слышал.
Часов в семь вечера красивый молодой человек принял ванну, выщипал портившие лицо волоски и, напевая песенку, стал самодовольно прогуливаться перед зеркалом в одной из комнат Лувра. Рядом спал или, вернее сказать, потягивался на постели другой молодой человек. Один был тот самый Ла Моль, о котором так много говорили в этот день, другой — его друг Коконнас.
Гроза в тот день прошла над Ла Молем так незаметно для него, что он не слышал раскатов ее грома, не видел сверкания ее молний. Возвратясь домой в три часа утра, он до трех часов дня пролежал в постели: спал, мечтал и строил замки на том зыбучем песке, имя которому — будущее; затем он встал, провел час у модных банщиков, сходил пообедать к мэтру Ла Юрьеру и по возвращении в Лувр закончил свой туалет, намереваясь совершить обычный свой визит к королеве Наваррской.
— Ты говоришь, что уже обедал? — спросил, позевывая, Коконнас.
— И с большим аппетитом.
— Какой ты эгоист, почему ты не позвал меня с собою?
— Ты так крепко спал, что мне не хотелось тебя будить. А знаешь что? Поужинай вместо обеда. Только не забудь спросить у мэтра Ла Юрьера того легкого анжуйского вина, которое он получил на днях.
— Хорошее?
— Вели подать — уж я тебе говорю.
— А ты куда?
— Я? — спросил Ла Моль, изумленный таким вопросом друга. — Куда я? Ухаживать за моей королевой.
— А кстати, не пойти ли мне обедать в наш домик в переулке Клош-Персе; пообедаю остатками вчерашнего; кстати, там есть аликантское вино, которое хорошо восстанавливает силы.
— Нет, Аннибал, после того, что произошло сегодня ночью, это будет неосторожно, мой друг. А кроме того, с нас взяли слово, что мы одни туда ходить не будем. Передай мне мой плащ!
— Верно, верно, я и забыл об этом, — ответил Коконнас. — Но какого черта! Где же твой плащ?.. A-а! Вот он.
— Да нет! Ты даешь мне черный, а я прошу вишневый. В нем я больше нравлюсь королеве.
— Честное слово, его нет, — сказал Коконнас, посмотрев по сторонам, — ищи сам, я не могу найти.
— Не можешь найти? Куда же он девался?
— Может быть, ты его продал?..
— Зачем? У меня осталось еще шесть экю.
— Надень мой.
— Вот хорошо — желтый плащ к зеленому колету! Я буду похож на попугая.
— Уж очень ты требователен. Тогда делай, как знаешь.
Но в ту минуту, когда Ла Моль, перевернув все вверх дном, начал посылать всевозможные ругательства по адресу воров, способных пробираться даже в Лувр, вошел паж герцога Алансонского с драгоценным плащом в руках.
— Ага! Вот он! Наконец-то! — воскликнул Ла Моль.
— Это ваш плащ, граф? — спросил паж. — Да?.. Его высочество посылал взять его у вас, чтобы решить одно пари по поводу оттенка ткани.
— О, мне он нужен только потому, что я собираюсь уходить, но если его высочество желает его пока оставить у себя…
— Нет, граф, вопрос уже решен.
Паж вышел, и Ла Моль застегнул свой плащ.
— Ну, как? Что ты решил делать? — спросил Ла Моль.
— Сам не знаю.
— Я тебя застану здесь сегодня вечером?
— Ну, разве я могу сказать это наверное?
— Так ты не знаешь, что будешь делать через два часа?
— Я знаю, что делал бы я, но не знаю, что мне велят делать.
— Герцогиня Неверская?
— Нет, герцог Алансонский.
— В самом деле, — сказал Ла Моль, — с некоторого времени я замечаю, что он уделяет тебе много внимания.
— Ну да, — ответил Коконнас.
— Тогда твоя судьба обеспечена, — смеясь, сказал Ла Моль.
— Фу! Младший сын! — ответил Коконнас.
— О-о! У него такое желание сделаться старшим, что Небо, может быть, совершит для него чудо. Так, значит, ты не знаешь, где будешь сегодня вечером?
— Нет.
— Тогда иди к черту… или, лучше, ну тебя к Богу! Прощай!
«Ужасный человек этот Ла Моль, — рассуждал пьемонтец сам с собой, — вечно требует, чтобы ты сказал, где будешь вечером! Разве это можно знать? Впрочем, похоже, что мне хочется спать».
И Коконнас опять улегся в постель. Что касается Ла Моля, то он полетел к покоям королевы. В коридоре, нам уже известном, он встретил герцога Алансонского.
— A-а! Это вы, граф? — сказал герцог.
— Да, ваше высочество, — ответил Ла Моль, почтительно его приветствуя.
— Вы уходите из Лувра?
— Нет, ваше высочество, я иду засвидетельствовать свое почтение ее величеству королеве Наваррской.
— В котором часу вы уйдете от нее?
— Ваше высочество желает что-нибудь мне приказать?
— Нет, не сейчас, но мне надо будет поговорить с вами сегодня вечером.
— В котором часу?
— Между девятью и десятью.
— Буду иметь честь явиться в этот час к вашему высочеству.
— Хорошо, я полагаюсь на вас.
Ла Моль раскланялся и продолжал свой путь.
«Иногда этот герцог вдруг бледнеет, как мертвец… странно!..» — подумал он.
Он постучал в дверь к королеве; Жийона, словно ждавшая его прихода, проводила Ла Моля к Маргарите.
Маргарита сидела за какой-то работой, видимо, очень утомительной; перед ней лежали исписанная бумага, пестревшая поправками, и томик Исократа. Она сделала знак Ла Молю не мешать ей дописать раздел; довольно быстро его закончив, она отбросила перо и предложила молодому человеку сесть рядом.
Ла Моль сиял. Никогда еще он не был таким красивым и веселым.
— Греческая! — воскликнул он, посмотрев на книгу. — Торжественная речь Исократа. Зачем она вам понадобилась? Ага! Я вижу на вашем листе бумаги латинское заглавие: «Ad Sarmatiae legatos reginae Margaritae contio»[19]. Так вы собираетесь держать этим варварам торжественную речь на латинском языке?
— Приходится, потому что они не говорят по-французски, — ответила Маргарита.
— Но как вы можете готовить ответную речь, не зная, что они скажут?
— Женщина более кокетливая, чем я, оставила бы вас в заблуждении, что она импровизирует; но по отношению к вам, Гиацинт, я на такие обманы не способна: мне заранее сообщили их речь, и я отвечаю на нее.
— А разве польские послы прибудут так скоро?
— Они уже приехали сегодня утром.
— Об этом никто не знает.
— Они прибыли инкогнито. Их торжественный въезд в Париж перенесен, кажется, на послезавтра. Во всяком случае, то, что я сделала сегодня вечером, — в духе Цицерона, вы услышите, — прибавила Маргарита с едва заметным оттенком самодовольства и собственного превосходства. — Но оставим это. Поговорим лучше о том, что с вами было.
— Со мной?
— Да.
— А что со мной было?