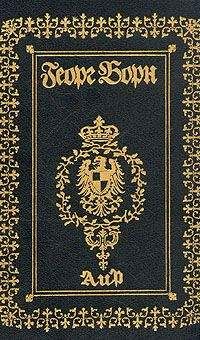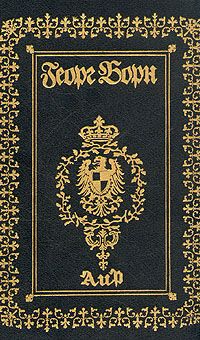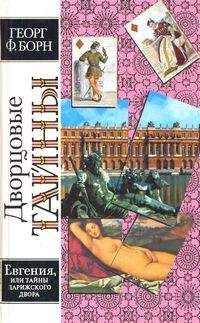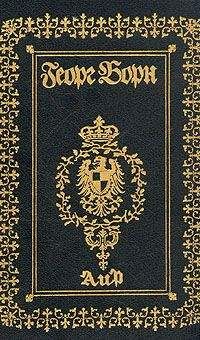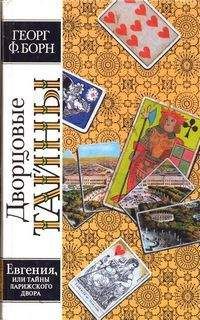— Я не могу у тебя долго задерживаться, Эбергард.
— У тебя что, спешная работа?
— Нет, сегодня воскресенье, а этот день я посвящаю отдыху и размышлениям…
— Как и твой отец.
— По его воле я и пришел сюда, он желает тебя видеть.
— Это похоже на упрек, Ульрих. Я с охотой сознаюсь в своей вине; давно я не был в твоем доме, давно не беседовал с твоим отцом, которого очень люблю и уважаю!
— Он любит тебя так же сильно, как и меня. Ему сегодня хуже, чем когда-либо!
— Что сказал Вильгельми о его здоровье?
— Он старается облегчить страдания, но это почти не удается. Старик переносит несчастье с замечательным терпением и без всяких жалоб. Он просто героически борется со страшным недугом, отнявшим у него способность владеть своими членами.
— Страшная участь! — тихо произнес Эбергард.— За что должен страдать этот человек, державшийся в жизни столь строгих правил, так много работавший, неизменно удивлявший всех силою и серьезностью своего ума. Страшно подумать, что он осужден переносить в старости такую тяжелую болезнь.
— Мне кажется, что силы его слабеют с каждым днем и мы должны быть готовы к тому часу, когда душа его отойдет к Богу,— сказал Ульрих дрожащим голосом,— ты можешь понять, дружище, как я страдаю при этой мысли…
Эбергард положил руку на плечо друга и вместо ответа показал ему на блестевшее в глубине зала солнце, в лучах которого ярко горели крест и череп.
Ульрих понял его.
— Я потерял все, что любил,— сказал князь Монте-Веро, братски обнимая Ульриха,— я потерял все, что мог назвать своим.
Благоговейная тишина царила в комнате; солнце озаряло стоящих друзей, и старый Иоганн, казалось, смотрел на них с портрета любящим взглядом.
— Пойдем,— сказал Ульрих,— прерывая молчание,— ведь он ждет тебя!
Эбергард набросил плащ, и они вышли из дворца. Быстрым шагом они прошли замковую площадь и скоро достигли старого дома, уже более столетия принадлежавшего семейству Ульриха.
Это был большой удобный дом, каких сейчас почти не встретишь из-за всеобщего стремления заменить прочность и удобство роскошью и внешним блеском.
По обе стороны высокой двери, словно немые стражи, стояли две каменные фигуры в передниках и с молотками в руках. Предки Ульриха были медниками и выставили эти статуи как образцы своего искусства.
Дед его оставил ремесло своих предков, чтобы сделаться золотых дел мастером, и старый Ульрих, к которому спешил Эбергард, достиг высокого совершенства в этом искусстве. Он получил образование в Италии и Париже, и старый король, справедливо ценивший его работу, часто призывал мастера во дворец не только для заказов, но и для беседы; он охотно вел разговоры с развитым и красивым мастером.
Теперь этот Ульрих был уже стариком, а его единственный сын открывал дверь дома, чтобы впустить Эбергарда, которого старик так настоятельно приглашал к себе.
Лампа освещала просторную прихожую, в глубине которой находилось несколько дверей. Ульрих отворил одну из них и жестом пригласил друга следовать за собой. Они вошли в полуосвещенную комнату — теплый воздух здесь был особенно приятен после уличного холода.
Обстановка комнаты не отличалась роскошью, однако свидетельствовала о благосостоянии ее обитателей. Резная мебель, тяжелые массивные стулья в цветных чехлах указывали на то, что они служили предкам настоящих владельцев.
Отсюда друзья прошли через открытую дверь в большую комнату с завешенными окнами.
Лампа на столе посреди комнаты распространяла приятный полусвет. Глубокую тишину нарушало лишь равномерное движение маятника.
— Это ты, Ульрих? — раздался слабый голос из глубины комнаты.— Привел ли ты Эбергарда?
— Да, отец, друг, которого ты так желал видеть, здесь. Мы можем войти?
— Заходите, заходите.
Взяв Эбергарда за руку, Ульрих ввел его в комнату.
В темном углу в широком кресле сидел старик с внешностью древнего патриарха. Тело его было парализовано, только глаза и губы еще повиновались ему.
Когда друзья вошли, женщина, долгое время ухаживавшая за ним и теперь сидевшая возле старика, вышла, чтобы не мешать их разговору.
Сегодня он, чувствовавший себя гораздо хуже обычного, мог только глазами приветствовать входящих; руки его безжизненно лежали на подлокотниках, ноги были завернуты в плед; он полулежал, откинув голову на подушку.
А между тем старик этот когда-то энергией своей не уступал друзьям, что стояли перед ним. Хотя и сейчас дух его был достаточно силен, чтобы бороться с приближавшейся смертью.
Не было ли какой-то тайны на душе этого человека? Не тяготило ли над ним какое-то преступление, которое он осужден был искупать теперь своими страданиями?
Кто мог бы это подумать об Ульрихе, лучшем из граждан, лучшем из отцов, так охотно подававшем руку помощи бедным и нуждающимся?
Старый Ульрих принадлежал к числу людей, пред которыми всякий считает за честь снять шляпу, на жизни его не было ни пятна.
А между тем вот уже несколько лет мучительная болезнь приковала его к постели.
Еще и теперь видно было, что Ульрих был когда-то очень красив. Его бледное истомленное лицо со спускавшейся до груди белой бородой сохранило благородные черты; в слабых глазах читался светлый ум и чистая душа.
— Слава Богу, что вы наконец пришли,— проговорил он с беспокойством в голосе.— Вы заставили меня долго ждать.
Эбергард приблизился к старику.
— Не сердитесь на меня, отец,— проговорил он,— за то, что я пришел к вам только сегодня.
— Мне нужно было позвать вас, Эбергард. Ведь мне недолго осталось жить, а многое следует сообщить вам! В прошлую ночь я передал моему сыну все, что касалось его. Теперь я должна говорить с вами. Мне нужно торопиться, Эбергард.
— Отец Ульрих, я люблю вас и вашего сына. Поэтому ваше доверие особенно меня радует.
— Я люблю вас, как сына, Эбергард, и мне тяжело было так долго не видеть вас. Садитесь… Придвиньте стул поближе… Мне тяжело говорить… Да и глаза устают… Всё это дурные признаки, следует торопиться. Так… еще ближе, Эбергард, мне нужно поговорить с вами наедине.
Услышав слова отца, сын тихо и почтительно вышел из комнаты.
— Убавьте свет в лампе, сын мой,— попросил старый Ульрих.— Он слепит мне глаза. Да и темнота лучше соответствует моему рассказу — он не слишком-то радостен и весел. Лишь вам одному я доверяю эту священную для меня тайну; после долгих колебаний я решился на это по двум причинам, которые вы узнаете в конце рассказа.
Князь Монте-Веро ближе придвинул стул к креслу старика.
— Для меня ваша исповедь священна, — серьезно сказал он, положив свою руку на неподвижно лежащую кисть старика.