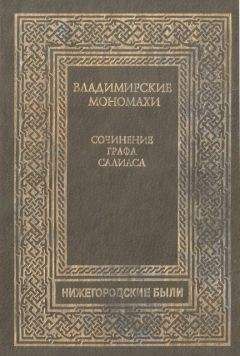В бытность свою в Париже Алина иногда встречала князя Радзивилла, но гордый магнат относился к ней всегда с большим презрением и высокомерием, чем кто-либо, и принцесса Володимирская была, конечно, оскорблена этим.
Теперь тот же Радзивилл первый начинал с нею переговоры, заводил речь о правах принцессы на русский престол.
Алина была не только изумлена, но поражена этой вестью.
Доманский имел полномочие говорить обо всем, условливаться во всем. Цель его поездки главным образом заключалась в том, чтобы устроить свидание князя Радзивилла с принцессой; на этом свидании они должны подробно переговорить об всем и даже назначить время, когда начать действие.
Если бы Алина захотела, то через неделю она могла уже свидеться с Радзивиллом; но в данном случае ее внезапное и пылкое чувство к Доманскому помешало делу.
Сама Алина, да отчасти и Доманский оттягивали его обратную поездку к Радзивиллу. Оба они вскоре жалели о том, что не встретились просто, без этого важного дела, о котором приходилось говорить.
Таким образом, в этих новых отношениях между графиней Оберштейн и капитаном дело помешало любви, а взаимная любовь мешала делу.
Один Шенк, свидетель происходящего, был встревожен всем, что видел и слышал; он стал сумрачен, раздражителен.
Однажды утром Шенк явился к Алине, требуя объяснения. Вследствие дурно проведенной ночи, в волнении, Шенк резко заговорил с той женщиной, которую искренно любил как друга и которая, несмотря на то, что была самозваной принцессой Володимирской, а теперь – законной владетельницей графства Оберштейн, для него была одновременно Алимэ, колдунья и фокусница, бывшая под его командой, и, наконец, для него же она была той женщиной, которая когда-то существовала тем хлебом, который он зарабатывал в качестве приказчика в гостинице.
Все это поневоле помнил Шенк, а Алина будто забыла.
– Я не могу терпеть более того, что вижу, – заговорил Шенк. – Как вы ведете себя с тех пор, как вы стали графиней Оберштейн, а я – вашим маршалом, или, лучше сказать, просто управляющим? Я стал честным человеком, все дурное меня возмущает. Я стал лучше и хочу, чтобы все вокруг меня было тоже лучше. А вы, единственное близкое мне существо, не переменились, остались той же авантюристкой, готовой броситься на шею первому встречному!..
– Как вы смеете мне это говорить?! – воскликнула Алина.
– Смею и буду говорить, обязан говорить. Я соглашался с вами, что вам не следует спешить выходить замуж за рыжего и тощего Лимбурга и, пожалуй, выйти замуж иначе или, наконец, не выходить ни за кого и быть свободной; но согласиться с вами, что эта свобода нужна вам затем, чтобы сходиться с первым попавшимся проходимцем, потому что он красив собою, – признаюсь, этого я не думал и не ожидал.
– Вы всегда ненавидели, – отвечала Алина насмешливо, – завидовали всем красавцам.
– Не упоминайте о том, что я страшно дурен: это старо, я это давно знаю, я этого не забыл; а если бы и забыл, то вы часто напоминали мне об этом. Дело не в том. Скажите мне, что это за человек? Откуда он взялся, пока я ездил и хлопотал по вашим делам? И помимо простых любовных отношений, которые я, к сожалению, уже нашел, какие еще тайные переговоры ведете вы с ним?
Алина была раздражена тоном Шенка и отвечала:
– Вам нет до этого никакого дела.
– Вы с ума сходите! – воскликнул Шенк.
– Нет, по счастью, нет. Скорее, я была прежде сумасшедшая, когда руководствовалась вашими советами!
– Послушайте, Алина, не шутите со мной: я на все способен! – воскликнул Шенк.
– Знаю, даже на убийство.
– О, это слишком, – вымолвил Шенк бледнея. – Кого я убил и для кого? Вспомните: что бы вы были теперь, если бы не я? Вы были бы давно в гробу, зарезаны, если бы вот эта рука не поразила на месте вашего мужа. Неужели мне надо напоминать вам об этом? Вы забываете нашу связь с вами – более крепкую, нежели всякая другая. Вы должны ставить мое чувство к вам и меня самого выше ваших капризов. Мало ли на моих глазах перебывало ваших поклонников и даже любовников, – все это было и прошло, наполовину забыто вами, а я все здесь, около вас; но если я здесь, около вас, в довольстве и роскоши, то и не забудьте то положение, в котором я был, ту роль лакея, которую я исполнял ради вас и о которой я так шутливо писал вам письма. В действительности она была нелегка. За это время я невольно спрашивал себя: сделал ли бы я это самое для моей матери, если бы она была жива? А теперь вы променяли меня на какого-то проходимца. За несколько дней моего отсутствия является в замок какой-то офицеришка, правда красивый собою, но совершенно вам неизвестный: быть может, вор, быть может, каторжник, который может ночью зарезать вас и обокрасть, а вы вполне доверяетесь одному красивому лицу, а мне, человеку, который скоро год как не проявил ничего, кроме преданности и дружбы, вы не доверяете. У вас есть какая-нибудь тайна с этим проходимцем, а Шенк ее не знает. По-моему, он поляк, по крайней мере судя отчасти по его костюму. Неужели же это опять старая песня о русском престоле и о подобных глупостях? Что же вы молчите? Неужели опять явится на сцену глупая игра в принцессу Володимирскую?
– Может быть, – отвечала Алина, – и, во всяком случае, я сделаю и поступлю так, как захочу, вопреки вашему желанию и совету.
– Стало быть, он является от Игнатия?
– Этого я вам не скажу.
– Не шутите, Алина, и не оскорбляйте меня.
– Вы меня не оскорбляйте, – отвечала Алина, – вы не мешайтесь в мои сердечные дела!
– Хотя бы даже и с проходимцем? – злобно рассмеялся Шенк и при этом прибавил несколько слов, настолько грубых, резких и оскорбительных для всякой женщины, а тем более для пылкой и самолюбивой Алины, что она вдруг поднялась со своего места, как ужаленная, и выговорила грубо:
– Извольте выйти вон!
– Уйду, – воскликнул Шенк, – но уйду не только из этой горницы, а уйду из этого замка, и вы, быть может, никогда больше меня не увидите.
– После того, что вы со мной позволяете, я буду счастлива, если вы покинете Оберштейн и я никогда не увижу вас.
– Довольно, – воскликнул Шенк. – Я ухожу; через час меня в замке не будет; дела я сдам моему помощнику. Я надеюсь, что вы не побоитесь, что я обкраду вас. Я даю слово выйти отсюда без единого гроша, но я обещаю вам все-таки действовать за вас и для вас, вопреки вашей воле и вашему желанию; это вы должны помнить. Я не могу позволить, несмотря на все оскорбления с вашей стороны и на всю вашу неблагодарность ко мне, я не могу позволить разным бродягам влюблять в себя вас, играть вами и, быть может, даже увлекать, не ради политических соображений, а ради политического шутовства. Быть может, этот офицеришка просто переодетый вор. До свидания, а может быть, и прощайте. Вы меня долго не увидите – до тех пор, пока сами не позовете вновь, но вы у меня будете постоянно на глазах; я постоянно буду знать, где вы и что вы. И впредь говорю: в минуту опасности я буду с вами, явлюсь, если удастся, еще раз спасти вас от погибели. Вы сделаетесь более честной и порядочной женщиной и не будете способны на две отвратительные вещи – на неблагодарность и разврат.