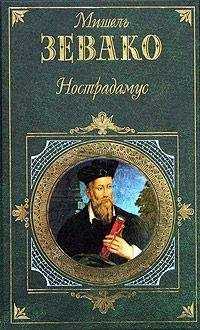Такова моя воля, и я подписываю это обязательство собственноручно.
Франциск II, король Франции».
Юный король поставил свою подпись под документом и передал пергамент Нострадамусу.
— А почему вы ничего не попросили для себя самого? — поинтересовался он.
— Сир, — ответил Нострадамус, — должность, которую Вашему Величеству было угодно только что мне доверить, сама по себе послужит для меня надежной защитой.
Король грациозно поклонился Нострадамусу, вышел из апартаментов матери и отправился к себе, чтобы поскорее с гордостью рассказать жене, юной королеве Шотландской, о том, как он подписал свой первый королевский указ.
— Мадам, — сказал Нострадамус Екатерине, едва король удалился, — я отправляюсь за вашим сыном. Очень скоро я верну его вам.
— Как? — вздрогнув, спросила удивленная королева. — Как? Вы идете за моим ребенком, не дождавшись, пока ваш сын окажется на свободе?
— Да, мадам, — поклонившись, ответил Нострадамус.
Екатерина минутку подумала. И, может быть, испытала в этот момент чрезвычайно редкие в ее жизни добрые чувства. Во всяком случае, после этой минутной задумчивости она взволнованно предложила:
— Хотите, останемся друзьями, мессир?
Нострадамус склонился к протянутой ему руке и слегка прикоснулся к ней губами.
— Идите с Богом, — все так же прочувствованно сказала Екатерина. — Но я не стану дожидаться вашего возвращения с Анри. Я сейчас же отправлюсь в Шатле, чтобы вернуть свободу вашему сыну. Я обязана сделать это сама.
Екатерина Медичи сдержала слово. Час спустя после того, как под первым указом Франциска II была поставлена его королевская подпись, мать уже сжимала маленького принца Анри в своих объятиях. А в это же самое время Руаяль де Боревер, Флориза, Мари де Круамар и Нострадамус, встав на колени у постели в доме на улице Тиссерандери, у постели, на которой покоилось тело убившего себя великого прево Роншероля, возносили к небесам поминальные молитвы о его грешной душе…
Известно, что Нострадамус прожил еще некоторое время в Париже, добросовестно исполняя обязанности личного врача короля Франциска II, а затем и Карла IX. Затем он удалился в красивый провансальский городок Салон, где под могильной плитой в церкви Сен-Лоран и обрел вечный покой. А до этого… Если Господь одарил каких-то мужчину и женщину возможностью познать высшее счастье, то это были Нострадамус и Мари де Круамар… Но какой же дорогой ценой далось им это высшее счастье!
Спустя двенадцать месяцев после описанных в этом романе событий, в памятную годовщину страшного утра, когда они должны были умереть, в той же самой церкви Сен-Жермен-л'Оссерруа, где они объявили себя женихом и невестой, Руаяль де Боревер и Флориза де Роншероль сыграли свадьбу. И надо сказать, что счастье этих детей оказалось лучшим подарком судьбы для Нострадамуса и Мари.
Что до Мирты, то она, по всей видимости, в конце концов утешилась, потому что пять лет спустя, в 1564 году, она уже была замужем за неким шевалье де Гонессом. В приданое своему супругу она принесла весьма значительную для того времени сумму в сто тысяч экю, которую лично вложил в ее красивые ручки все тот же Нострадамус.
Мы очень долго разыскивали хоть какие-нибудь сведения, способные пролить свет на личность шевалье де Гонесса. И в один прекрасный день удалось разгадать загадку: роясь в довольно древних и вызывающих полное доверие бумагах, мы нашли среди них одну, рассказывавшую о том, что в 1563 году земли Гонесса, вместе с титулом шевалье, были куплены Нострадамусом для человека, настоящее имя которого было Буракан.
Достигнув, таким образом, высокого положения в обществе и будучи очень богатым, Буракан оставался таким же простым и скромным человеком, каким был всегда. Он ни за что не хотел разлучаться с Боревером, в чем его очень поддерживала Мирта, которой ни за что не хотелось жить в разлуке с Мари и Флоризой. Что же до господ Тринкмаля, Страпафара и Корподьябля, они так и прожили всю жизнь холостяками. Вряд ли стоит говорить о том, что и им тоже разлука с Боревером казалась невыносимой и что они наотрез отказались покинуть своего бывшего вожака. Все они провели вместе немало долгих и счастливых лет, вспоминая о прежних славных подвигах.
Наконец, в заключение скажем, что слава Нострадамуса была безмерной и вполне заслуженной. Удалившись в тихий Салон, он не только продолжал там свои научные исследования и лечил больных. Нет, еще больше, чем когда-либо, он размышлял о том, что даже в наши дни волнует самые дерзкие умы: об истинности человеческих принципов и целей, к которым стремится душа человека.
— Есть только один учитель, который не терпит над собой никакого насилия, — имел обыкновение говорить он. — Высшую магию вы найдете в работе. Работа приведет людей к познанию непознанного, это будет медленный, но верный подъем к вершине духовного знания, еще недоступной толпе, но вершине, к которой стоит стремиться, потому что оттуда одним взглядом можно окинуть Истину во всей ее целостности — единую, бесконечную, нераздельную, ослепительную Истину…
А когда его спрашивали, кто же этот таинственный учитель, который способен привести человечество к постижению Истины, он с таинственной улыбкой отвечал:
— Этот учитель — Время…
Читатель! Если по капризу судьбы или из-за случайного изменения маршрута вашего путешествия вы окажетесь неподалеку от Салона, нарвите по дороге полевых цветов и положите их у скромной могилы великого Нострадамуса…
Мы не можем задерживаться здесь ради дискуссии на тему о том, проявился ли в этом случае, по странному совпадению — одновременно со словами Нострадамуса, рефлекторный феномен, который иногда отмечается после смерти. (Примеч. авт.)
Улица Тиссерандери — в дословном переводе: улица Ткачества, Ткацкого дела. (Примеч. пер.)
Само слово «святотатство» сохранило в наши дни только свой этический, нравственный смысл. Однако в ту эпоху, когда происходит действие романа, когда церковь и религия обладали поистине безграничной властью, понятие «святотатство» включало в себя куда более грозные последствия. Тот, кто его совершал, не только в соответствии со Священным Писанием обрекал свою душу на вечные муки. Это было еще не всё. Его еще и приговаривали к смерти, подвергая тело пыткам, самой безобидной из которых казалось повешение. (Примеч. авт.)