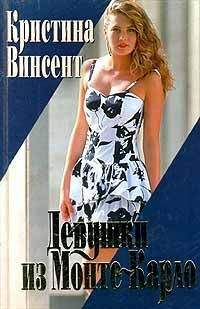Такой вариант тоже нельзя исключать. И хорошо, если весной приплывет Ицхак. С его дотошностью и увертливостью, может, и удастся убедить англичанина вернуть деньги, а если еврею подвернется более выгодный маршрут – пиши пропало. Хоть нет – это вряд ли. Перстень. Приедет он в надежде, что я окажусь посговорчивее, как пить дать приедет.
Но как бы там ни было – все это в Москве, до которой еще надо добраться, а кушать мне нужно уже сейчас. Да и приодеться не помешало бы – штаны еще ничего, и кровь с них отстиралась, а рубаха вообще драная. Стыдоба.
Посему оставалось только одно – наниматься к кому-то на службу. Делать это мне категорически не хотелось, и я некоторое время сопротивлялся, уговаривая себя, что остроносый должен отыскаться, а вместе с ним ларец и моя одежда, не просто дорогая сама по себе, но и с зашитыми в ней резервными капиталами. Но день шел за днем, а Никита Данилович радостную весть о поимке мерзавца присылать не спешил.
Жаловаться на хлебосольство мне не приходилось. Кормили и сытно, и вкусно, причем усаживали за господский стол, а не с дворней. Даже в такой мелочи, невзирая на свою юность, Борис Федорович оказался предусмотрителен. Он вообще после отъезда Никиты Даниловича по-хозяйски распоряжался всеми делами.
Но о том, что я обладаю даром предвидеть будущее и предсказываю людские судьбы, ни слова. Он и со мной об этом больше не говорил. Порою создавалось впечатление, будто Борис меня немного побаивается – вдруг увижу что-то касающееся его, и притом далеко не такое замечательное, как раньше. Жить с осознанием того, что, к примеру, через два с половиной месяца твоему существованию на этом свете настанет конец, это знаете ли, не сахар. Все время станешь думать только о том, как бы обхитрить судьбу, как бы спастись, и в итоге отравишь этими мыслями и те считаные дни, которые тебе еще остались. Все логично.
Вообще, этот парень мне нравился с каждым днем все больше и больше. Спокойный, рассудительный, распоряжения той же дворне дает только дельные, без крика и шума, с родней, особенно со старшими, уважителен, но про достоинство свое тоже не забывает. А уж разговоры вести и вовсе мастак. Ни одного слова попусту – только по делу, и именно такие, чтоб никого случайно не обидеть. Не знаю, чем он там насолил историкам, что они на него набросились, – может, потом испортится, но сейчас Борис был из тех, кого принято называть душой компании, причем любой.
Что же касается его отношения к сестре Ирине, то тут вообще песня. Я понимаю, утрата родителей отчасти сближает детей-сирот, особенно если она произошла в раннем возрасте, а Ирина потеряла мать, по сути ни разу ее не увидев – та умерла при родах, когда девчонке исполнился один год. Да и сам Борис в это время был еще ребенком, всего девять лет. Мальчик, невольно оказавшийся причиной ее смерти, тоже не зажился на белом свете – его не стало через три года, всего через год после смерти их отца Федора Ивановича. Умершего младшего брата Борис тоже очень любил. Когда рассказывал мне о покойном Феденьке – а ведь с тех пор прошло шесть лет, – у него на глаза постоянно наворачивались слезы. Он и Иринку, может быть, именно потому так оберегал, что боялся потерять, памятуя об умершем брате.
А я иногда смотрел, как он с ней играет в жмурки – ей это нравилось больше всего, – и диву давался. Получается, что я спас от смерти будущую царицу всея Руси, ни больше ни меньше. Во как! Прямо гордость распирала. А с другой стороны…
Той последней ночью, которую я провел в роли татя, лежа в амбаре и не в силах заснуть от дикой боли в спине – как черти когтями драли, – я успел выслушать откровения Петряя, который взамен на рассказ просил… задавить его. Терпеть мучения сил у него больше не было, а наложить на себя руки он боялся – смертный грех. Вот тогда-то он и рассказал, как было дело.
Остроносый обманул не только меня одного, но и его, пообещав выручить, да так и не сдержав слово. Оказывается, Петряй не сам вышел на меня, хотя вообще «работал» в Костроме именно наводчиком – высмотрит купца побогаче, который расторговался, и к своим. Ну а дальше дело техники – у шайки все уже было отработано до мелочей. Со мной же получился прокол именно потому, что его обуяла жадность и он согласился провернуть это дело с одним остроносым, который вычислил Петряя, а потом научил, что да как. Да и ехать нам надо было совсем в другую сторону – отлучаться в банду несподручно.
К тому же Петряй – что нас и спасло – на самом деле был аховым проводником и в незнакомых местах действительно изрядно плутал. Запутавшись в наставлениях остроносого, он в первый же день на одной из развилок повернул совсем не туда, куда тот ему говорил, и их встреча ночью не состоялась. А во вторую горе-проводник решил, что добро не должно пропадать зря – наше, разумеется, – и пошел повидаться со своей шайкой, благо мы уже успели вернуться и место ее обитания находилось всего в десятке верст от нашей ночевки.
Петряй понимал, что вернуться вовремя он не успеет, а потому вечером заранее заговорил о завтрашнем маршруте, рассчитывая, что мы будем следовать в строгом соответствии с его указаниями и, таким образом, сами придем к банде. Но время шло, а меня не было и не было, и все пошло насмарку. Пришлось догонять. Развернуть возок не получилось, но он услышал, что народу на подворье почти не осталось – все разосланы по соседям, первые из которых должны прибыть завтра.
Медлить было нельзя, и он, улучив момент – тем более разместили его как нельзя удачно, – снова сорвался к банде, а уже возвращаясь, столкнулся с остроносым, который все-таки вышел на наш след, ухватил Петряя за шиворот и пообещал тут же выпустить кишки, если тот не выполнит уговора. Узнав же, как обстоят дела, сказал, что так даже еще лучше, и посоветовал сообщить подельникам, что ларец приезжий купец передал хозяевам. Потому разбойнички сдуру и подались наверх, но практически ничего не нашли. Главарь же, заподозрив неладное, решил пошарить внизу и напоролся на меня.
Петряй сам помогал заносить сундук, а потому безошибочно провел остроносого в мою комнату. Ну а дальше я и сам все знаю. Молчал же наводчик лишь потому, что, не успевший удрать остроносый, узнав, что я жив, велел немедленно удавить меня, заверив, будто непременно освободит его следующей ночью. Поначалу он предложил назвать Петряя своим холопом, но тот отказался – Никита Данилович знал его как облупленного и как-то раз уже повелел высечь кнутом за прошлые, более мелкие прегрешения.
Если бы не здоровый мужик, пойманный за побег и уже сидевший тут, в амбаре, задавить меня проблемы бы не составило, но тот так угрожающе на него цыкнул, что Петряй затаился, решив чуть обождать, тем более беглец вновь собирался дать деру, что благополучно осуществил на следующую ночь. Однако к этому времени новоявленный киллер сам не мог толком пошевелиться – выбитые на дыбе и плохо вправленные на место суставы рук немилосердно болели и своего хозяина совершенно не слушались.