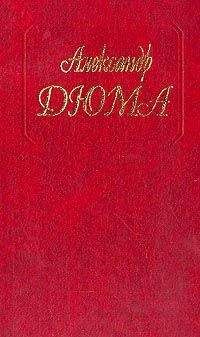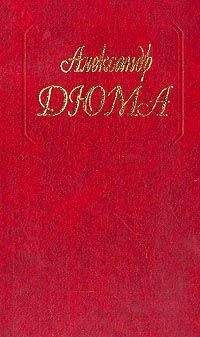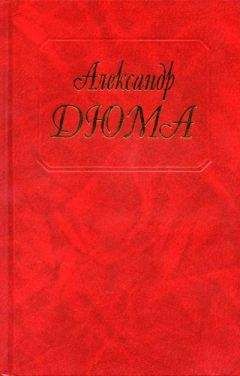— Продолжайте же жить, творя добро и жертвуя собою: вы обрели истину, отец мой… Я слышал, что говорят о вас и об окружающих вас людях: их боятся и уважают, вас же любят и благословляют.
— И все-таки они счастливее меня, по крайней мере, в отношении веры. Они склоняются под бременем веры, а я борюсь с сомнением. Зачем Господь посадил в своем раю проклятое древо познания? Почему, чтобы достичь веры, надо отказаться от определенной, быть может лучшей, самой здравой части разума, в то время как неумолимая наука запрещает нам что-либо утверждать или даже во что-то верить без доказательств?
— Понимаю, отец. Вы человек честный, не рассчитывающий на возмещение; вы человек добрый, не рассчитывающий на награду. Словом, вы не верите в иную жизнь, кроме нашей.
— А ты веришь? — спросил Пальмиери. Сальвато улыбнулся.
— В моем возрасте, — ответил он, — мало занимаются вопросами о жизни и смерти, хотя при моем ремесле всегда находишься между ними, и часто даже ближе к смерти, чем седовласые старики, которые, еле держась на ногах, стучатся в ворота camposanto 98.
Помолчав, он добавил:
— Я и сам недавно постучался в эти ворота. Но если я не был уверен, что они не отворятся, я все же надеялся на это. Почему, отец, вы не поступаете так же? Зачем, подобно Гамлету, пытаться проникнуть во мрак могилы и думать о том, какие сны будут тревожить наш ум во время вечного сна. Почему, хорошо прожив жизнь, вы боитесь постыдно умереть?
— Я не боюсь умереть постыдно, дитя мое. Я боюсь умереть весь, без остатка. Я из числа тех, кто не умеет учить тому, во что сами не верят. Мое искусство не столь непогрешимо, чтобы быть в силах вечно бороться со смертью. Один только Геркулес может быть уверен, что всегда победит. И вот когда больной, предчувствуя близкую смерть, говорит мне: «Вы уже не можете помочь мне как врач; попытайтесь же хотя бы утешить меня» — я, вместо того чтобы, пользуясь затемнением его рассудка, внушить ему надежду, которой сам не разделяю, умолкаю, чтобы не высказать умирающему бездоказательное суждение, чтобы не внушить надежды, за которую нельзя поручиться. Я не отрицаю существования потустороннего мира; я ограничиваюсь тем — и этого уже достаточно, — что не верю в него. А не веря в него, я не могу его обещать и тем, кто ищет его в потемках агонии. Боюсь, что, когда глаза мои закроются, я уже не увижу ни жены, которую любил, ни сына, которого люблю. Я не могу сказать мужу: «Ты вновь увидишь жену» — или отцу: «Ты вновь увидишь свое дитя!»
— Но ведь вы знаете, что я увидел свою мать.
— Не ты, дитя мое. Простая женщина, существо грубое, запуганное, уверяла: «У колыбели младенца стояла тень и пела, качая своего ребенка». А я, тогда еще молодой, увлекавшийся всем чудесным, сказал: «Да, это возможно». Я даже поверил, что так оно и было. Лишь старея — ты сам убедишься в этом, Сальвато, — лишь старея, начинаешь сомневаться, потому что все больше приближаешься к этой страшной и неизбежной истине. Сколько раз здесь, в своей келье, один на один с душераздирающей мыслью о небытии, которая в известном возрасте входит в наше сознание, чтобы уже не покидать его, и как невидимый, но ощутимый призрак шествует рядом с нами, — сколько раз перед этим распятием, коленопреклоненный, вспоминая поэтическую легенду времен твоего детства, и в час, когда, по поверьям, являются призраки, я, окруженный полным мраком, молил Бога повторить ради меня чудо, которое он совершил ради тебя! Бог не удостоил меня ответом. Знаю, что он волен не являть свое могущество и свою волю перед такой малостью, как я; но как бы то ни было, он проявил бы свою доброту, свое милосердие, если бы услышал мою мольбу. Он не снизошел.
— Он снизойдет, отец.
— Нет: это было бы чудо, а чудеса противны логике природы. Кто мы такие, чтобы Бог, пребывающий в незыблемой вечности, изменил предначертанный им ход вселенной? Кто мы такие для него? Неосязаемая плесень, что уже тысячи веков служит основою для сложного, необъяснимого, неуловимого процесса, именуемого жизнью. Процесс этот охватывает все: в растительном мире от лишайника до кедра, в животном — от инфузории до мастодонта. Шедевр растительного мира — мимоза, шедевр животного мира — человек. От чего зависит превосходство двуногого существа без оперения, упоминаемого Платоном, перед прочими животными? От случая. Его место в шкале тварей оказалось самым высоким: это дало ему право превзойти меньших братьев своею индивидуальностью. Что такое Гомер, Пиндар, Эсхил, Сократ, Перикл, Фидий, Демосфен, Цезарь, Вергилий, Юстиниан, Карл Великий? Это мозги, устроенные немного лучше, чем слоновьи, несколько более совершенные, чем у обезьян. В чем выражается это улучшение? В замене инстинкта разумом. Что доказывает их превосходство? Способность говорить, а не лаять или рычать. Но достаточно явиться смерти — и она обрывает речь, уничтожает разум; достаточно черепу — пусть то будет череп Карла Великого, Юстиниана, Вергилия, Цезаря, Демосфена, Фидия, Перикла, Сократа, Эсхила, Пиндара или Гомера — достаточно ему, подобно черепу Йорика, наполниться чистейшей грязью — и все: комедия жизни закончится, свеча в фонаре гаснет и уже больше не зажжется никогда! Ты часто видел радугу, дитя мое. Это огромная дуга, простирающаяся от одного до другого края горизонта и восходящая до облаков, однако обе крайние точки ее касаются земли; эти крайние точки — младенец и старик. Понаблюдай за младенцем и увидишь, что, по мере того как мозг его развивается, совершенствуется, зреет, его мысль, то есть душа, также растет, совершенствуется, созревает; посмотри на старца и заметишь, наоборот, что, по мере того как его мозг слабеет, сохнет, отмирает, мысль, а стало быть, душа, затуманивается, меркнет, затухает. Зародившись вместе с нами, она сопутствовала созреванию плодовитой юности; она будет сопутствовать старости в нашем бесплодном распаде. Где был человек до своего рождения? Никому это не ведомо. Чем был он? Ничем. Чем станет, перестав жить? Ничем, другими словами — тем, чем был до появления на свет. Нам предстоит возродиться в ином виде, говорит надежда; перейти в лучший мир, говорит гордыня. Что мне до этого, если я за время переселения потеряю память, если забуду, что жил, и если та же ночь, что окружала меня за пределами колыбели, вновь окружит меня за могилой? Если человек сохранит память о своих странствиях и преображениях, то он станет бессмертным и смерть окажется всего лишь эпизодом в его бессмертии. Один только Пифагор помнил о своей предшествующей жизни. Что же это за чудотворец, если он помнит себя в то время, как всеми все забыто?.. Довольно, однако, об этом удручающем вопросе, — оборвал себя Пальмиери, тряхнув головой. — Эти тягостные думы порождаются одиночеством. Я рассказал тебе о своей жизни, расскажи мне о своей. В твоем возрасте слово «жизнь» пишется золотыми буквами. Освети лучом своего рассвета и своих надежд потемки моих сумерек и моих сомнений. Говори, любезный мой Сальвато! Пусть я забуду все, что сказал, даже звук собственного голоса. Молодой человек исполнил его просьбу. Ему хотелось поведать отцу обо всем, что произошло на заре его жизни. Он рассказал о своих битвах, о победах, о пережитых опасностях, о своих увлечениях. Пальмиери то улыбался, то плакал. Он захотел осмотреть рану Сальвато, выслушать его. Отец неутомимо расспрашивал его, сын без устали отвечал, и так их застало утро; вместе с тем послышались барабанный бой и звуки фанфар, возвестившие им, что пора расставаться.