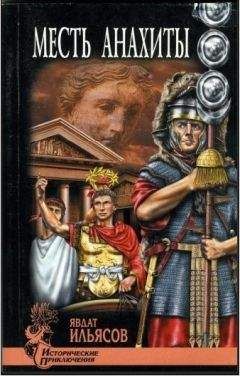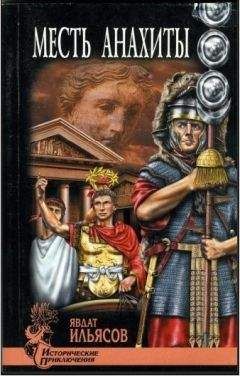— Фортунат! — обернулся Тит. — Оставь эти проклятые железки, никто их не тронет, — ступай сюда!
Юнец умирающе покачал головой. Его мутило от одного вида кувшинов и чаш и позывало на рвоту от доносившегося до него винного духа.
Греки, сладостно тренькая на арфах, пели что-то нежное, любовное. Легионеры, переглянувшись (знай наших!), грянули походную, старую…
Тит, красноглазый, все поглядывал на Дику, на ее сверкающий наряд.
— Эй! — гаркнул захмелевший Тит, когда солдаты, заскучав, умолкли и вновь потянулись к чашам. — Я хочу выпить с невестой.
Обойдя стол, качаясь, с полной чашей в руках, Тит двинулся к соседнему столу. Любуясь собой, красуясь, он не пролил ни капли. И центурион не остановил его.
Сам старик пил мало, с водой, и, себе на уме, чего-то ждал, не мешая подчиненным резвиться.
Дика оскорбленно вскинула гордый подбородок.
Возникло замешательство…
Невеста не может пить с каждым из гостей, ей вообще не положено пить в свадебный вечер.
Но и отказаться — опасно.
Всегда на пиру найдется дурак, что, нарушив обычай, сразу всех ставит в глупое положение.
Жених вскипел. Стратег умоляюще схватил его за плечо и зашептал, растерянный, хмурый, что-то разгневанной дочери, в то же время кисло улыбаясь грозному воину.
Дика пересилила себя. Она взяла мерзкую чашу, неохотно пригубила и с отвращением вернула Титу. Солдаты взревели, довольные.
Кое-кто, восторженно сопя, уже вылезал из-за стола, чтобы последовать примеру товарища.
Их одобрение еще сильнее раззадорило Тита:
— Я хочу поцеловать невесту!
И он, распустив слюни, весь красный, волосатой толстой рукой потянулся к Дике и ущипнул ее за грудь.
Мелькнул тяжелый кулак Ксенофонта. Тит, взмахнув руками, отлетел назад.
На какой-то миг все стихло, замерло на агоре. Ни звука!
Тит с бешенством размазал кровь по лицу:
— Римляне, опасность! Наших бьют!
Коренастый, могучий как бык, он схватил и опрокинул свадебный стол.
С грохотом все полетело на землю. Почтенные греки и гречанки в платьях, залитых вином, вскинув ноги, повалились вместе со скамьями, где сидели.
Тит с ревом выхватил меч.
Но тут Ксенофонт обрушил на его непокрытую голову тяжелую скамью. Это покрепче солнечного удара, который днем получил Фортунат.
Солдат упал и затих.
— Бейте их! — взметнулся над площадью гневный голос юного атлета.
Началась свалка.
Солдаты гонялись за женщинами, срывали с них украшения, волокли, кричащих, в темноту.
Уже никакой стратег не смог бы остановить побоище. Даже сам царь Александр, будь он здесь.
Треск скамеек и столов, звон лопающихся кувшинов, чаш и блюд. Греки орудовали скамьями, тяжелыми черпаками, толстыми прутьями от бронзовых треножников.
Часть их бросилась к Торговой палате. Фортунат безучастно смотрел, как они, ругаясь, разбирают римские копья.
Корнелий наотмашь ударил сына по лицу:
— Беги за невестой! Не упускай…
От тяжелой пощечины, что ли, глаза у Фортуната прояснились.
Он увидел Дику у входа в Торговую палату — она пряталась за колонной и в ужасе глядела на страшное сражение.
Прижимаясь к стене, Фортунат осторожно двинулся к ней. Дика заметила солдата и сразу догадалась, что именно ее он хочет схватить. Кинулась прочь, обронив гиматий, и все украшения невесты засверкали еще ярче.
Фортунат настиг гречанку у широких ступеней, ведущих наверх, к храму Артемиды.
Настиг и схватил за руку в золотых браслетах. Он ощутил ладонью холод и тяжесть этих гладких браслетов.
Дика повернула к нему мокрое от слез милое лицо:
— За что?
И он узнал в ней сестру! Свою, родную. Ту, что осталась в хижине возле Рима. Те же черты. Вернее, взгляд у нее такой же. Глубокий, печальный. В нем боль, которую никогда не поймет чужой человек.
— Беги, — отпустил ее смущенный Фортунат.
Она метнулась вверх, к спасительному храму.
— Червяк! — Мимо сына, как ядро из баллисты, пронесся, тяжело дыша, центурион.
Дика, уже у вершины холма, услыхала за спиной топот, хриплое дыхание. Неужели солдат передумал? Или это другой? Она обернулась, испуганно вскрикнула, рванулась в сторону — и, резко споткнувшись, упала головой на камни ступеней.
Звякнув, отскочила диадема.
К ногам центуриона потекла, расплываясь, черная полоса.
Здесь темнее, чем на агоре, потому кровь кажется черной. Лишь украшения, жадно ловя отдаленный свет, сияют почти как прежде.
— Чего смотришь? Снимай! — Центурион перевернул ее и дернул ожерелье на шее.
Он лихорадочно шарил по юному телу, так и не узнавшему мужской любви, срывая золотые цепочки, выдирая серьги из ушей, пытаясь расстегнуть — и не умея в спешке — массивные браслеты.
Мерзкий старик показался Фортунату чудовищем…
Юноше вывернуло все нутро. Он, заплетаясь ногами, поднялся чуть выше и опустился на выступ под алтарем у храма Артемиды.
Внизу от опрокинутых светильников и разлитого масла занималось бойким огнем сухое дерево столов и скамей. Толпа дерущихся то смыкалась с криком в тесную толкучку, то широко рассыпалась. Над площадью стоял стук и звон. И пронзительные стоны раненых.
По ступеням взлетел кто-то рослый, с коротким римским копьем. Атлет. Жених. Он дик и безумен…
Не успел Фортунат предостерегающе вскрикнуть, как над спиной центуриона сверкнул наконечник. Сверкнул — и погас глубоко в теле старика.
Покатились, прыгая со звоном, золотые браслеты.
Атлет оттащил мародера от невесты, бережно взял Дику на руки и осторожно, чтобы не споткнуться, двинулся, потерянный, вниз, на площадь.
Фортуната он не заметил. Или ему не стало дела до него, когда он увидел подругу в крови.
Римлянин мог бы, догнав, поразить его сзади мечом, но для этого у молодого солдата не было сил. Ни сил, ни охоты. «Слюнтяй», — сказал бы Тит. Он, шатаясь, спустился к отцу, взял за плечи, заглянул в лицо. Изо рта на бороду хлещет кровь. Борода сделалась черно-багровой.
— Фортунат, — прохрипел Корнелий. — Сын мой… Прости — обижал тебя. Нужда! Если бы нам… хоть пять… югеров земли…
Он весь затрясся, судорожно изогнулся, сделал, захлебываясь кровью, последний глубокий, рвущийся вздох — и сник.
Все! Вся земля уже твоя. Тысячи югеров земли. Сотни тысяч. Миллионы, до самых владений грозного Орка, в глубь которых ты теперь уйдешь.
Долго сидел Фортунат, потрясенный, у храма Артемиды. Это и есть война? Он первый раз увидел бой — до сих пор легионы Красса двигались по стране, подвластной Риму, и сражений не случалось. Ничего геройского! Пришли, нагадили…