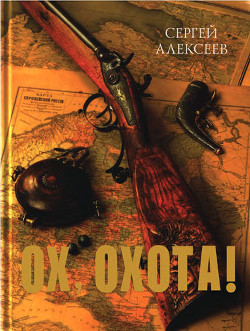о Пифии.
Спустя год царевич уже не вспоминал её, даже когда купался в голубой купальне, и теперь, возбуждая стихии естества, зрел в воображении деву, невиданную ни в Элладе, ни в Македонии, ни в прочих землях, где уже бывал. Некий лёгкий белопенный образ, сотканный из воздуха! Сей бесплотный призрак девы стоял на крепостном забрале, и солнечный ветер трепал долгие космы цвета красной меди. А от лица и рук воздетых свет исходил!
Это была уже не мать Миртала, не прелестная жена философа – совсем иная и юная дева, и мыслилось царевичу: она богиня земель далёких и неведомых, ибо в этих грёзах не мог признать ни места, ни часа, ни имени её изведать. Но голос ему был:
– Се есть твоя жена!
Черноволосая и смуглая Барсина была другой и отличалась как ночь от дня, однако он почуял, как близко подступил к тому, чего искал и ради чего затевал поход.
– Я изменю твой рок! – заверил вдохновлённый царь. – Ты – моя невеста! Клянусь богами!
Царевна глазом не моргнула:
– Именем матери своей клянись взять в жены!
– Клянусь Мирталой! – страстно молвил он. – Я, царь Македонии, именем Александр возьму в жёны Барсину, дочь своего врага!
– И на мече клянись!
Александр выхватил меч из ножен и, взявши за лезвие, вознёс над головой:
– Клянусь мечом!
– Никчемна жертва моего отца, – не сразу и сокрушённо молвила Барсина. – Ничем не сдержать Великого Изгоя…
Тем часом кони встали у лап каменного льва с обликом человеческим. Царь поднял голову, дабы позреть на Стражника Амона, но позрел на солнце: аспидные тени, курясь над пустыней, заволакивали алый круг светила! Как было на дору близ Ольбии!
В ушах же вдруг восстал свистящий звук бича и голос Барсины:
– А посему я принимаю твоё слово! Ты жаждал изведать моё приданое. Так знай: священные книги магов пребывают в храме Парсы. В сакральной столице Персии. Пойди и учини смотрины!
Сфинкс ожил, каменное изваяние льва восстало с насиженного места! Зверь с человеческим ликом потянулся и припал к земле, как перед прыжком. Его великая тень побежала, накрывая чёрным рдеющие пески. А в следующий миг солнце померкло и наступила тьма!
Александр был зачарован этим движением и голосом рока. Потом он бросил вожжи и потянулся к царевне, как слепой к поводырю, но ощутил не шёлк её одежд, а грубый кожаный панцирь.
– Пора, государь! – послышался осипший в зное, треснувший голос. – Нас ждёт караван!
Царь отпрянул:
– Кто здесь?..
– Я, летописец Каллисфен!.. Ты что же, не признал меня?
– В очах темно… Ничего не вижу!
Сродник Ариса хоть и воспитан был философом и вскормлён многими знаниями, однако не ходил на Понт и не изведал чёрной болезни. К тому же не знал, чем жертвовали и какой бальзам вкушали царь и его учитель, дабы избавиться от аспидной чумы, вернуться невредимыми из Ольбии.
– В странах полуденных, – пояснил он. – В тот час же наступает ночь, как только заходит солнце. Сейчас доставят светочи…
– Не зажигай огня! – Царь ощупывал пространство. – Со мной в колеснице была Барсина, дочь Дария…
Летописец что-то заподозрил:
– И верно, ты стал ровно незрячий…
– Где царевна?.. Возьми папирус и запиши: я нарёк её невестой! И матерью поклялся взять в жёны.
– У тебя, государь, болезнь очей! – донёсся голос Каллисфена. – Когда в вечерних сумерках пропадает зрение. А имя ей – куриная слепота…
– Ты меня слышишь, Каллис?
– Слышу!.. И как настанет утро, возьму папирус и запишу. А в сей час нас ждут жрецы Амона. А в его храме – оракул бога Ра!
– Пиши сейчас!
– Да полно, государь! Что напишу в темноте, наутро не разберу и сам… А ты не страшись болезни, с рассветом всё пройдёт. Не зря же в землях скуфи говорят: утро вечера мудреней!
Пажи агемы подхватили его под руки и повели – царь не противился. И когда его усадили в седло меж двух горбов верблюда, вдруг услышал из тьмы вкрадчивый голос Барсины:
– А лик у льва всё-таки женский…
Ночь и прохлада соединились в бесконечность, верблюжий караван шёл беспрестанно по пескам пустыни, и казалось, над землёю более не восстанет солнце. Чёрное, упругое пространство расступалось, словно морская беспросветная глубь перед рыбой, и замыкалось в тот час же, не оставляя следа. Вкупе со временем остановились все исчисления, и было не сосчитать минут, часов, шагов животных и их погонщиков, стадий расстояния; воздух стал неподвижен, звёзды не проступили на небосклоне, остановилось сердце и биение крови в ушах!.. Повсюду царстовал лишь непроглядный и покойный мрак, да ещё песок шуршал под копытами сих кораблей пустыни, словно в ветрилах ветер.
И в этом путешествии македонский львёнок утратил всякую власть – над присными и над собою. Как некогда в чумной болезни, он будто растворился в аспидной ночи и, как снадобья, как бальзама от недуга свирепого, ждал наступления утра и восхода. Однако мгла становилась гуще и, всюду проникая, скрипела на зубах, напрочь иссушая гортань; сомкнутые уста давно спеклись и запечатались, голос пропал, и было ни позвать, ни кликнуть, ни спросить, когда же наконец восстанет над землёю солнце. Если же не случится этого, тьма будет означать одно – возврат чумной хвори, от которой ждёт его даже не смерть, не мука скоротечная, а участь более тяжкая: гнить заживо в лохани, превращаясь в снадобье от дурной болезни!
Весь этот путь Александр зрел в воображении Старгаста – в том образе, когда он в шкуре льва сидел на своей башне, уподобясь сфинксу. Из многих наук и повестей волхва он вспоминал сейчас сказы о Египте, маги и чародеи коего способны были управлять светилами, продляя бесконечно день или ночь, гася и возжигая звёзды. И, вспоминая, уповал на их чудотворство.
Неведомо, сколь долго брёл караван по пустыне, прежде чем царь ощутил сначала влажный воздух, затем услышал вместо шуршащего песка шелест листвы и, наконец, почуял её прикосновение к лицу, но всё же долго ещё казалось – это мираж, даже когда увидл окрест себя зелёный призрачный свет, насыщенный щебетом птиц.
Мрак в тот час отступил, как только над оазисом восстало солнце, высветив храм бога Ра…
В пору мужания, когда мир воспринимался ещё как единое целое и не было крайних чувств зависти, ненависти, презрения, когда безмерно великою чудилась любовь ко всему утончённому, ласковому и живому, когда ещё сущи в душе отголоски юных страхов и есть смутное опасение, вдруг да запавшее вечером багровое солнце более никогда не поднимется над далёкой