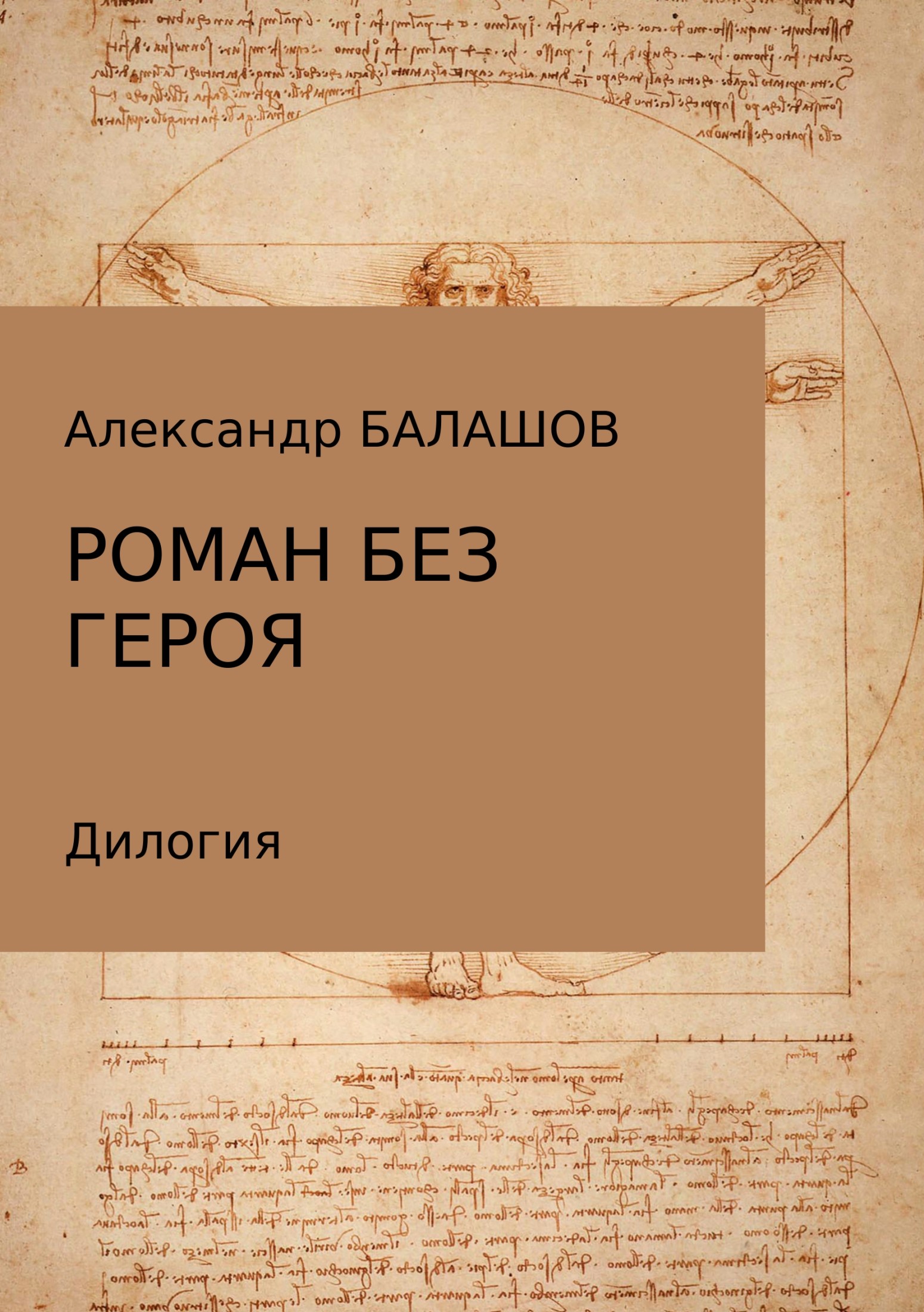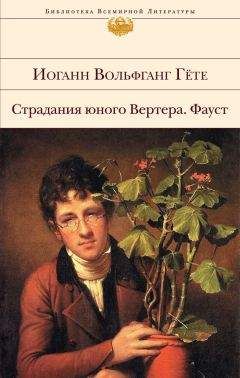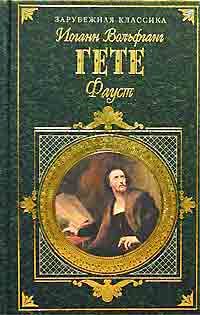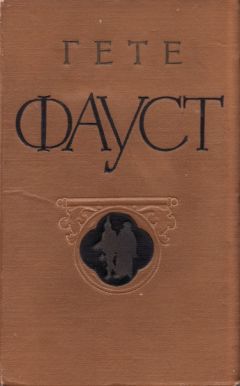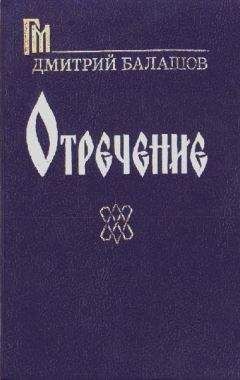делаются из случайных жертв
бунтов или других кровавых акций, санкционированных властью, символы мужественного, героического служения новому отечеству, государству в лице пришедших к власти красных фарисеев. Ничто у них не пропадает зря. Даже никчемные люди, что, как бездомные собаки, прибились к тем, кто бросает псам кости с барского стола.
Из погибшего в толпе из-за перелома шейных позвонков гражданина Красной Слободы Колчина сделали очередной героический символ. Объявили, что бывший красногвардеец, заместитель председателя Краснослободского комбеда погиб от рук клерикалов, слободского попа. «Озверевшие служители церкви, – писала местная газетка, – сломали ногу организатору митинга, старому большевику, председателю комбеда, председателю колхоза «Безбожник» тов. Карагодину и свернули шею его заместителю по комитету слободской бедноты. Честь и слава героям, отдавшим свое здоровье и даже жизнь за светлое будущее трудового народа!»
Меня, как слободскую интеллигенцию, тоже задействовали в организации пышных похорон гражданина Колчина. На могиле тов. Богданович и Котов стреляли вверх из нагана, салютуя павшим героям борьбы с мракобесием и религиозными предрассудками. Плакала навзрыд вся Слобода.
Многие полагают, что новая власть черпает силу во всеобщем равенстве, установившемся будто бы в Слободе. De facto это равенство – фикция. При сословном строе в Слободе социальное равенство просто неизбежно. Сегодня оно сказывается еще резче, чем раньше: положение красного чиновника, начальника или командира глубоко отлично от положения мужика. Не может быть и равенства перед законом в стране, где юридический и нравственный законы не имеют силы.
Глава 18
ПОСКОННЫЙ 33 МУЖИК ФЕДОР ЗАХАРОВ
Иосиф Захаров реконструирует прошлую жизнь своей семьи и размышляет о наказании Верхним Миром земляков своих за поругание веры и любви
Клим пролежал в лопухах, в овраге до позднего вечера. После всего увиденного у церкви, куда паренек частенько приходил, чтобы поучиться у диакона Варфоломея искусству колокольного звона (на ливенке 34 Клим выучился играть в пять лет самоучкой), домой идти не хотелось.
Июньский вечер опустился на Слободу. Подсвеченные уже почти севшим Солнцев кровавые облака предвещали будущий ветер и непогоду.
За речкой, у дома Разуваевых, пьяными голосами горланили матерные частушки. Сюда, в овражек, доносился даже дробный смех и повизгивание посадских девок, которых щупали или лупили (чаще – все вместе) слободские пьяные мужики.
Через час из-за леса выкатилась луна, освещая будто вознесшую к темному бездонному ночному небу старую прекрасную церковь… Луна матово отражалась в золоте главного купола, будто любовалась не отраженьем своим вечным, а красотой, сотворенной не только самим Создателем, но и его дитем, созданным Им «по образу и подобию», и Его же соперником по прекрасным творениям на земле – человеком.
И только крест, наклоненный веревками к грешной земле, пугал своей черной печалью.
В овраге, за церковью, и нашел своего младшего брата Федор Захаров. Он уже переоделся в посконные рубаху и порты, сняв праздничный наряд… Да и какой это был праздник для Федора, всерьез решившего посвятить себя служению Богу…
Федора, посконного мужика, как прозывала его бабушка Параша, человека с кроткой душой, озаренной тихим, но ясным светом, с детства тянуло в Ольговский монастырь. И кабы не прикрыла его власть, то отроком обязательно бы постригся в монахи. Хотя и плотничал отменно, и руки у него росли оттуда, откуда надо, и отец, и заказчики нахваливали его талант в работе с деревом, – да только, видать, ничего не мог против зова сердца «пасконный мужик» сделать. Власть помогла: взяла и своим очередным указом закрыла Ольговский мужской монастырь Рождества Божией Матери. А чтобы стены в лесной глуши не пустовали, свезли туда со всей округи малолетних преступников, устроив для них образцовую колонию не шибко строгого режима.
– Вот ты где, братишка, – сказал Федор, раздирая кусты бузины. – А я уж испереживался за тебя, Клим. Думаю, как ты там, на шабаше ведьмаков?
– Шабаш за рекой, – кивнул в сторону заречного посада Клим. – Слышь, кольями уже машутся. Как же без драки такой праздник закончить. Без крови негоже…
Они послушали, как матерились дерущиеся, трещали колья, вырванные из плетней и заборов.
– А ты как? – вздохнул Клим.
– Я-то? – улыбнулся Федор своей мягкой улыбкой. – Я-то ничего… С мамкой березовыми ветками хату украсили… Пармену с Парашей про бунт у церкви не сказывали. Чего старикам души травить? Пусть думают, что всё как всегда. Хорошо, то есть.
– Правильно… Только нехорошо всё.
– Вижу… – помолчав, ответил Федор. – Я к отцу Василию заходил. Ножик, что с собой в лес брал, за голенище засунул. Думаю, если помер батюшка, то пойду и зарежу Петруху Черного… Убью черта!
– А что батюшка?
– Жив он, голова вся в ранах… Крест-то тяжелый сам по себе, а этот черт еще со всей силы прикладывался… Чудом выжил.
– Не поминай на ночь нечистого! – поднялся с остывшей земли Клим. – А дальше – как всё будет? Та «троица» от батюшки уже не отстанет.
– Дальше? – вздохнул опять пасконный мужик Федор. – Дальше, как Бог даст… Матушка примочки ему делает, плачет. Говорит, мужик этот, из Красной Тыры, что в кожаных портах, приходил к ним. Наганам грозился… Сказал, нехай сбирается – утром в район отца Василия повезут…
– Отбить бы!.. – протянул Клим.
– Чем? Да и кто отбивать будет? За ним завтра красноармейцев пришлют на грузовике, с винтовками…
Они помолчали. Луна, погуляв по пустынному небосклону, игриво спряталась за темную тучку. Где-то на посаде завыла собака.
– К покойнику… – вздохнул Федор.
– Типун тебе на язык! – ответил Клим.
– Я нож-то, – Федор вытащил нож, с которым ходил резать березовые ветки, – отцу Василию показал… Говорю: иду, батюшка, главного антихриста деревни резать… Благослови!
– А он – что?
– А он мне: дурак. Нечто на такой грех священник может благословить?!.
– Тогда без благословения его зарежу, говорю я ему…
– Согласился?
– Если бы… Сил-то нету, крови много потерял… Но привстал на подушках, перекрестил меня и говорит: «Изыди, Сатана, из души отрака Федора!» И стал читать, читать… По древнему, непонятно… Я аж присел от страха. А руку его в своей сжимаю… Мне бы целовать её, прощения просить. А я, пасконная моя душонка, молчу и молчу…
– А – он?
– А он говорит: простить надобно своих врагов… И молиться за них…
– Ну, дела… – протянул брат, выбирая репьи из спутавшихся волос. – Батюшке, конечно, виднее. Только крест, Федька, нужно на место водворить.
Федор, поёживаясь от ночной прохлады, обернулся к церкви. Покачал головой, глядя на наклоненный бесновавшейся толпой крест.
– Хорошо бы! – улыбнулся он. – Народ завтра проснется. И глазам своим не поверит: чудо, чудо произошло! Крест на место вернулся!..
Клим тоже улыбнулся:
– Вознесся! Чудо