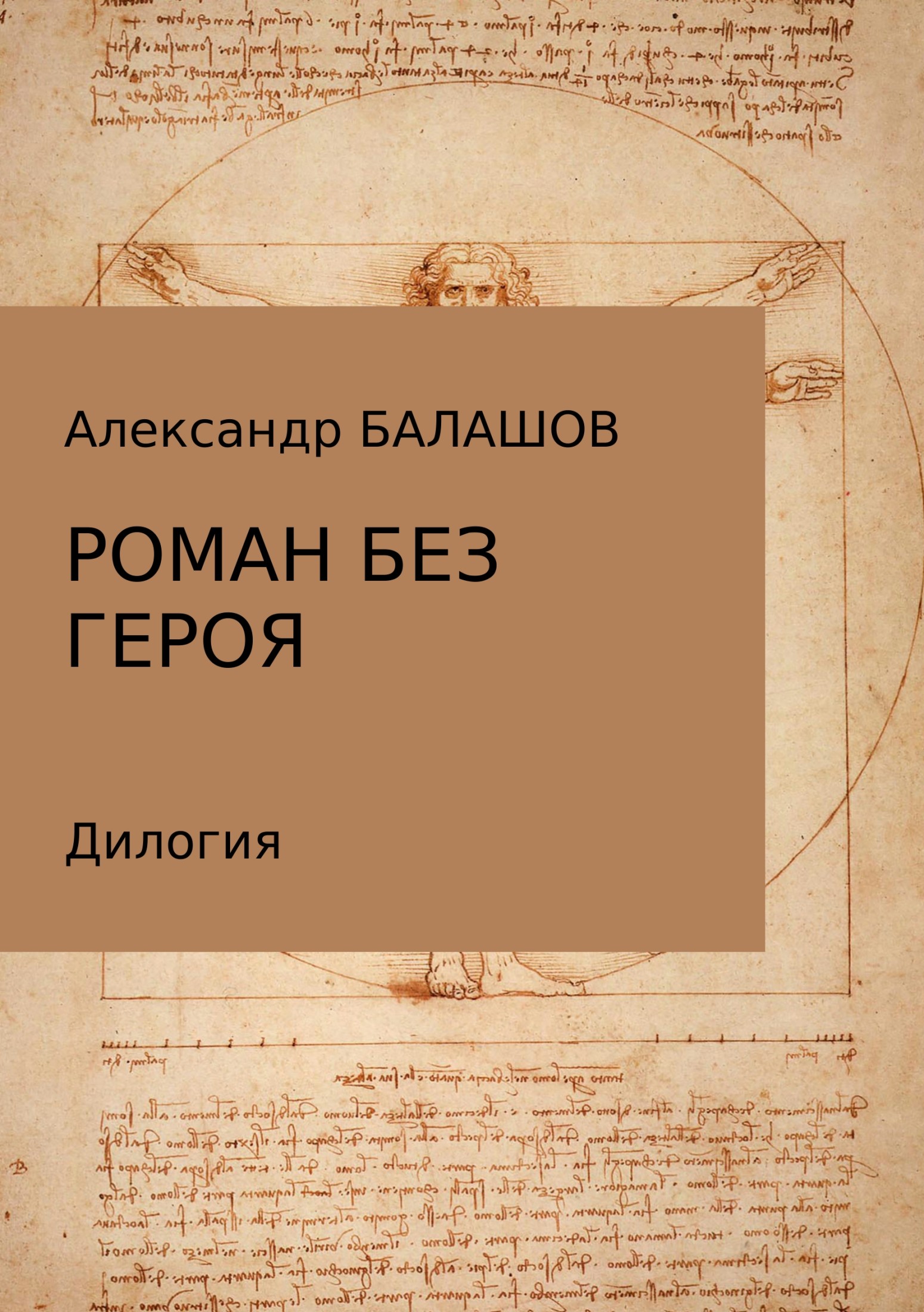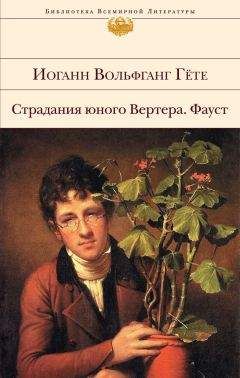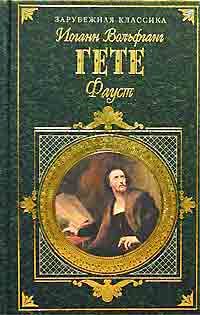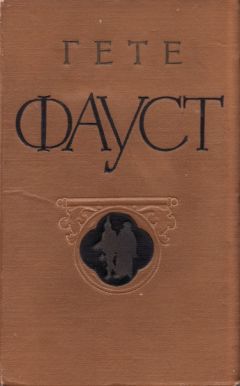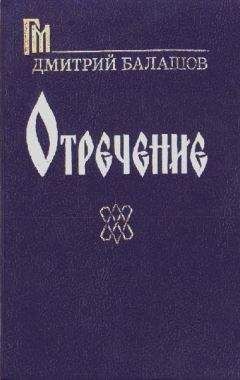другом и винтовка не нужна. Такой – не подведет…
Он засунул кинжал за ремень солдатской гимнастерки, отыскал глазами большое зеркало в черной деревянной раме и полюбовался своим отражением.
И вдруг заметил в самом углу зеркала чью-то неподвижную голову с широко открытыми голубыми глазами. Недреманное око, которое русские иконописцы изображали на иконах святых, в упор смотрело на Карагодина.
Он вздрогнул, но не обернулся, а спросил у отражения:
– Ты – кто?..
Голова осталась неподвижной, но длинные ресницы хлопнули пару раз.
– Живой, – сказал сам себе Петруха.
Он повернулся сделал несколько шагов к широкой постели, на которой лежал мальчик в темном обтягивающем, как у циркового гимнаста, трико. Тело мальчика было неподвижно. И по инвалидной коляске, которая стояла рядом с огромной кроватью, Карагодин понял, что юноша парализован. Нижняя часть его тела была непропорциональна верхней – мала и будто засушена. Худенькие ножки были неестественно коротки. Как у карлика на ярмарке. Зато голова этого уродца была раздута до увесистого арбуза, которые по осени привозили хохлы в Слободу. Большие голубые глаза смотрели на Карагодина спокойно и, казалось, совсем без страха. Это-то его и пугало больше всего.
Лицо паралитика было мальчишеское, не злое и не уродливое само по себе. Но оно пугало какой-то каменной неподвижностью. Казалось, это было и не лицо вовсе, а маска, застывшая в какой-то счастливый момент жизни бедного мальчика. Губы, даже напряженная, едва угадываемая улыбка – все были неподвижно. И страшно именно этой исторической окаменелостью.
– Ты – кто, малый?.. – держась за ручку только что обретенного щтыка-кинжала, спросил Карагодин.
– Ihc bin Diter, – почти не шевеля губами, ответил подросток чистым детским голоском, поняв вопрос пришельца.
– Кто-кто?
– Meine Name ist Diter. Ich bin krank… 36
Мальчик повторил уже улышанную Петрухой фразу.
– Дитер? – наконец расслышал имя маленького пруссака Карагодин.
– Iha, meine Name ist Diter, – повторил паралитик и даже чуть-чуть кивнул своей огромной головой, раздутой водянкой.
«Дитер, – подумал Петруха, – странный дом, странное имя … Видать, родители, испугавшись плакатов с кровожадными казаками, отрезающими головы младенцам, убежали, а больного прусёнка бросили на произвол судьбы. Кто ж такого на коляске по болотам покатит?»
Он взглянул на мальчика и засмеялся.
– Тебя бы, паря, на ярмарке в балагане показывать – отбоя бы от зевак не было!.. – рассмеялся Карагодин.
Он отошел от ложа мальчишки, толкнул коляску, которая докатилась до самого зеркала.
– И коней воровать не надо, – говорил Петр Дитеру. – Ты в клетке сидишь, глазами хлопаешь, а народ валом валит… Ха-ха! Гутен таг, Дитер! Тебе конфетку, мне – пятак. Обоим хорошо, да?
Мальчик тихо улыбался, не понимая речи чужака.
– Живешь ты, Дитер, богато. Марки мне ваши поганые ни к чему. А вот золотишко я люблю. Сережки мамкины, колечки – есть? – спросил Петруха мальчика. – Эти секиры и прочие железяки нехай стоят у печи. Мне колечки, сережки с изумрудными глазками, бусы янтарные больше по душе.
Глаза заморгали чаще, словно мальчик понял, о чем говорит незваный гость.
– Какие-нибудь камушки, дорогие побрякушки – есть? – спросил Карагодин Дитера, нисколько не заботясь о том: понимает его больной мальчик или нет. Он даже потряс дробное тельце мальчика, чтобы тот лучше усвоил вопрос солдата.
Глаза крупно моргнули, будто сказали: «Да!».
– Да?!. Ты моргнул – да? Вот это, Дитер, другой разговор! – обрадовался Петруха. – Я поищу похоронку, а ты поморгай мне, когда будет горячо.
Он вытряхнул на пол содержимое платяного шкафа, всех ящиков черного комода, сработанного из какого-то мореного дерева… Ничего подходящего не было. Глаза не моргали.
Настроение победителя скисло.
Рядовой Карагодин сел на пол, с укоризной поглядывая на паралитика, снял сапоги. Медленно раскрутил вонючие портянки и намотал на уставшие ноги куски бархатной портьеры, которые он откромсал немецким кинжалом от портьер при поиске золотишка.
– Чё зенками не хлопаешь? – злясь на неудачный промысел, спросил Петр. – Где золотишко-то, хлопчик?
Больной закрыл глаза.
– Ага, говорить не хочешь…
И тогда Петр дернул за бордовой покрывало, на котором лежал мальчик. Тело бедняги от резкого рывка повернулось на бок. Глаза распахнулись и трижды мигнули солдату.
И тут Петруху осенило. Обычно самое дорогое прячут рядом с самым дорогим. Чего это вдруг больной поверх покрывала лежит? Больных под одеяло укладывают, а не сверху…
Карагодин встал, прихрамывая, подошел к мальчику.
– А ну встань, сучонок!
Мальчик молча смотрел на Петруху.
– Встать!… – заорал Карагодин, но тут же рассмеялся: как встанет этот паралитик? Просто его нужно подвинуть, сковырнуть с одеяла и посмотреть хорошенько – что там, под матрасом?
Петр взялся за край покрывала и сдернул его на пол. Паралитик откатился на край кровати, но не упал. И все так же во все глаза смотрел на чужака, крупно моргая: да, да, да.
– Зенки закрой! – сплюнул Карагодин, чувствуя, как в груди просыпается чёрная ненависть к этому человечку. Он знал, что после приступа ненависти к горло подступит тошнота, кровь отхлынет от лица – и на минуту он потеряет сознание, отключится от реального мира, от всего, что происходит с ним. И ничего не будет помнить об этом провалившемся в тартарары времени. Ничегошеньки…
Петр пошарил рукой под матрасом и вытащил из-под него шкатулку, изящно сработанную из красного дерева, с резной крышкой и с желтым игрушечным замочком.
– Ага!.. – потряс он шкатулку, в которой что-то загремело. – Попалась, златая рыбка!
Мальчик пошевелился, протестующее заверещал.
– Молчи, сучок! Молчи! И зенки задрай!
Петруха ковырнул замочек кинжалом – и достал содержимое. На дне полупустой шкатулки лежали два золотых кольца и массивная брошь, усеянная белыми сверкающими камушками. Посреди броши, на зеленом камне, золотом горела какая-то надпись, выцарапанная готическим шрифтом.
Хозяин замка принадлежал к старинному рыцарскому ордену. И если на клинке кинжала было начертано «Необходимое зло», то на медальоне ордена должны были выграверованы слова древнегреческого драматурга Менандра: «Время – врач всех необходимых зол».
– Дорогая вещичка, Дитер!… – повеселел Карагодин. – Живём, парень!
Паралитик заволновался. Это было видно по глазам. Потом он замычал, призывая Петра положить вещь на место.
– Тихо, тихо, немчура проклятая, – сказал Петр, думая, какую из подушек бросить мальцу на голову – он боялся этого взгляда и застывшей полуулыбки на лице уродца.
Любой свидетель, даже немой – опасен. Он выдернул из-под головы массивную подушку в бордовом напернике, отвернулся к зеркалу.
Но прежде чем Петр перекрыл дыхание мальчика, уродец хрипло позвал кого-то истошным криком:
– Varus 37!.. Vas!
Карагодин изо всей силы зажал подушкой рот Дитера. Тот даже не засучил ножками, судорожно дернулся пару раз… И затих под легкими перьями,