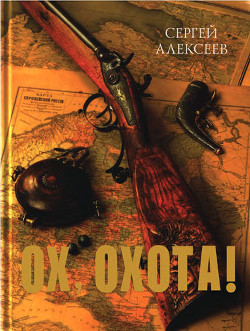же, государыня, не обессудь. Придётся душу пробуждать огнём. Теперь иди в свои покои и жди!
Миртала восстала с ложа, непослушными руками облачилась в одежды.
– Тому и быть, муки разделим поровну, – сдобрился он и подал сосуд. – Вина мне принесёшь, самого крепкого, когда вновь призову…
Походкой неуверенной она ступила на лестницу, спустилась вниз и, покинув башню, внезапно узрела на её верхней боевой площадке малый огонь: волхв возжёг ее волосы, бывшие в чаше с маслом! Но голову её лишь опалило на миг, как бы если пламя всего только лизнуло кожу, и в тот час утренний ветер с моря остудил жар. Миртала бежала с оглядкой, и по мере того, как на башне костёр сей разгорался, огонь всё чаще доставал её, принося сиюминутную и нестерпимую боль. И нельзя было уклониться от этого пламени!
Вернувшись в свои покои, она намочила плат и повязала им голову, однако к палящим всплескам теперь ещё добавился отвратительный запах горящего волоса, наносимый неведомо откуда. Меж тем на башне робкий огонёк обратился в сверкающий столп, видимый из окон покоев, и жители Пеллы всполошились, побежали взглянуть, что же там сотворил Старгаст, однако никто не посмел войти к волхву.
Испытывая муки, Миртала металась по своим палатам, не зная, как утешить боль, и та плотская страсть, что довлела над нею, словно растворилась в страданиях. Мало того, вкупе с каждой обжигающей волной и дурным, едким дымом она чуяла, как подступает отвращение к тому, кого возжелала. В порыве уже иной страсти возникали мысли отомстить скопцу!
Стараясь погасить палящий пламень, она и морской водою поливалась, обмазывалась маслом, по совету верных служанок прикладывала оливковые листья, мерзкую слизь медуз и, наконец, в исступлении, уткнувшись головой в холодный камень, вздумала отравить волхва. Рождённая в отчаянии мысль уже не казалась столь чудовищной, напротив, внезапно одухотворила её настолько, что боль стала утихать и вовсе отступила. Но в тридевять возросла жажда мщения! Призвав к себе кормилицу-эпириотку, бывшую при ней в замужестве, велела раздобыть яду, сама же тем временем глянула в окно и узрела, что огонь на башне по-прежнему вздымается до небес, но более не обжигает!
Уже под вечер послушная кормилица принесла малую глиняную котилу, на дне которой плескалось чёрное зелье из семени куриды, которое в диких племенах Мизии давали девам, которых приносили в жертву. Сей яд напоминал вино, вводящее в хмельное блаженство и впоследствии в крепкий сон, но уже без пробуждения. Обречённые отроковицы, умирая, испытывали сладострастие и не от судорог корчились – от незнаемого в жизни томления тела. Предвкушая месть, Миртала велела кормилице наполнить урну самым крепким вином из царских погребов, после чего сама влила туда яд и стала ждать ночи. Томимое местью сердце, казалось, не внимало более ни знакам, ни зову, и напрасно она вслушивалась в его вкрадчивый стук, напрасно взирала на башню, стоя возле окна, – мир погрузился в сумеречное, тревожное безмолвие. И вкупе с ним на башне угас огонь, разве что дымок ещё курился, сносимый в море…
Когда же стемнело и звёзды показались на небосклоне, она обрядилась в эллинское платье и вместо привычного гиматия надела синий суконный диплоидион, дабы можно было покрыть голову, и хотела уж пойти, но вдруг ощутила, как отяжелели члены и дрёма застит очи. Опасаясь пролить отравленное вино, она поставила урну, присела подле на пол, привалившись к стене, и, мысля переждать минуту слабости, утешаясь местью и более всего боясь расплескать её, заснула крепко, без сновидений.
Пробудилась лишь через несколько часов, но сон ничуть не умалил чувств – напротив, ещё пуще взыграло сердце обиженной и гордой эпириотки, коей пренебрегли, предав позору! Должно быть, она и впрямь обозналась, и сей волхв не тот юный бог, что являлся к ней в царский сад Эпира и сердце покорил. Конечно же она истосковалась по своему возлюбленному, устала ждать, и тоска сыграла с нею злую шутку, наложив полузабытый образ на некоего обритого волхва, вздумавшего посмеяться над её женской сутью!
Теперь же он достоин смерти…
На сей раз она не дождалась знака и пошла незваной. Тяжёлый сосуд с вином оттягивал руки и клонил к земле, однако жажда мести придавала силы. Проникнув в башню, Миртала прислушалась и осторожно стала подниматься по ступеням лестницы, пугаясь скрипа песка под сандалиями. Первый ярус был погружён во тьму, особенно густую под сводами, но на боевой площадке второго мельтешил по стенам призрачный огонь незримого светоча и оттуда же доносился некий нескончаемый трепещущий звук. Но, прежде чем шагнуть в освещённое пространство, она задержалась под тёмной аркой свода, вдруг обнаружив, что лицо её стало неподвижным, словно единожды обратившись в некую хищную, мстительную личину, так застыло. И даже стиснутых уст не разжать, не произнести ни слова!
Поставив сосуд на ступень, она отёрла щёки, чело и голову, лишённую волос, ледяные ладони очужели, впрочем, как и само бесчувственное лицо. Ей подумалось, что это от сырого, студёного воздуха, ибо солнце в самый зной не прогревало могучих стен и холод с влагой накапливались под сводами; благодатные в жаркий полдень, они сейчас знобили и вызывали желание скорее взойти наверх, где трепетал неведомый огонь и сквозь бойницы врывалась душная, благоухающая ночь. Отыскивая впотьмах сосуд с вином, Миртала чуть не опрокинула его, настолько непослушны стали руки.
Она одолела последние ступени и замерла, в единый миг согревшись так, что влажными стали ладони и ступни ног: на каменном полу, перед жировым светильником, поджав колени к подбородку, сидел тот юный и безусый Раз, что явился к ней в саду! И вместо ног – два свитых в кольца змеиных тела…
Множество ночных бабочек мельтешили над его златокудрой головой и перед огоньком, трепеща сотнями крыл. Но это был настолько утомлённый и ослабевший бог, что прекрасные и желанные руки его свисали, ровно у мертвеца, и на лице застыла гримаса муки.
– Я звал тебя, – однако же голосом волхва вымолвил он. – И думал, ты, государыня, не выдержала очищения огнём… Подойди ко мне. И дай вина…
Не в силах совладать с собой, Миртала послушно приблизилась, и он взглянул с сотраданием, однако промолчал. И тут неожиданно порхавшие в свете мотыльки опали на пол, словно снег, и мельтешение света и теней по стенам прекратилось.
– В сосуде сём отрава, – промолвил Раз, взирая на бабочек ночных. – Но я умираю от жажды…
Немощной рукой взял урну и в тот же миг прильнул к серебряному горлу. Алое, как кровь, вино потекло на грудь, и вид его словно