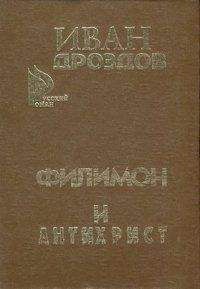Министр свел у переносицы широкие брови. На лбу резко обозначились морщины. Селезнев только теперь заметил, что лицо у него испещрено мелкой вязью морщинок, — лет ему, наверное, за пятьдесят. Ни Селезнев, ни Баринов теперь уже не думали о возмездии за происшествия, забыли сидение в приемной, министр им не казался ни чванливым, ни важным; наоборот, оба они были поражены внезапной откровенностью этого большого человека, его глубоким проникновением в суть запутанных человеческих отношений.
Они молчали. Им не хотелось говорить. Они ждали, что ещё скажет министр. И он сказал:
— О Самарине тоже знаю. С ним история посложнее. Тут, пожалуй, преступлением пахнет. Мне стало известно, что в Москве напечатана книга Каирова об электронных машинах. Боюсь, что к этой книге Каиров имеет такое же отношение, как я к созданию «Евгения Онегина».
А теперь вот что, братцы: самаринскую машину надо внедрить на всех шахтах страны. Для этого я должен союзному министру докладную записку подготовить. Вы мне должны помочь. Напишите–ка поподробней, как обстояли дела с испытанием «советчика диспетчера». Да так, чтобы и цифры были, и мысли ваши, и заключения. Срок вам — неделя.
А теперь извините меня. Я должен идти на пульт, говорить по видеотелефону с иностранцами. Они сейчас в Магнитогорске, но собираются к нам. Самаринской машиной интересуются. Я их потом к вам на шахту пришлю. Вы им в работе машину покажите, а схему не давайте. Ну а теперь… с богом, за работу. Желаю успеха!..
Иван Иванович обнял горняков за плечи, проводил до двери. Селезневу на ухо сказал:
— За два ЧП надо было выпороть тебя, да больно уж дела большие развернул на шахте. Не хочу портить настроение. Однако смотри построже. И впредь чтобы не было.
Открывая дверь, министр дружески ударил обоих по плечу.
Маша сидит в старом дырявом кресле сбоку от радиоассистентского стола. На столе — постановочная карта, над ней склонился помощник режиссера, молодой человек, одетый в дубленку с черным бархатным воротничком. Он, как штурман дальнего плавания, отмечает на карте кружочки, крестики — это действующие лица, сцены. Кого позвать, какую сцену начать, какую музыку включить, какой подать свет — все здесь, на столе и на пульте, в его руках.
«Счастливец не тот, кто долго живет, а тот, кто много смеется», — думает Маша, взглянув на артиста Жарича, который обычно изображает простаков и неудачников, а сейчас загримирован под Льва Толстого — ещё не старого, но уже с окладистой бородой, с массивной головой на широких плечах.
Глаза у Жарича живые, с глубокой смешинкой.
Жарич кутается в нарядный шерстяной плед, который выпросил в костюмерной, и обут в валенки. Дело в том, что ему режиссер Ветров приказал представить сегодня Толстого «в подлинном виде», а это значит: Жарич выйдет на сцену в посконной рубахе, подпоясанной веревочкой, и босиком, как задуман Толстой драматургом. Софью, его жену, играет Мария. Она сидит рядом и тоже «в подлинном виде» — бархатном платье, облегающем её стан, в высоких зашнурованных сапожках.
Маша не смотрит на сцену, но слышит беспрерывные комментарии Жарича, который в складках занавеса укрылся от глаз режиссера:
— Эк его, эк его!..
Это означает, то Ветров «распаляется», «входит в раж».
В другое время Жарич, продолжая наблюдать за режиссером, защелкает языком:
— Тю–тю–тю…
Мария это его тюканье переводит следующим образом: «Не надо так, потише, потише…» Жарич не хотел представлять Толстого босым и в посконной рубахе. Артист вдрызг переругался с режиссером, наконец, под страхом увольнения из театра, согласился. Однако совесть в нем бунтовала, и он сейчас, как никогда, был недоволен Ветровым, подшучивал над ним и глумился.
Ветров требует присутствия на репетиции всей труппы: и тех артистов, которые заняты в спектакле, и тех, кто не занят. «Смотрите, учитесь, постигайте тайны сценического искусства».
— Вернитесь к столу, вам говорят! — кричит Ветров молоденькой артистке — она недавно начала свою театральную жизнь и ещё робеет на сцене.
— Такой взмах не годится! — поучает Ветров. — Это легкомысленный взмах. Вы слышите?.. У вас получился жест, будто вы отогнали муху. А я вам говорил: даже незначительный, едва заметный жест должен быть современным, должен отрицать старое, отжившее. В институте вас обучали профессора. Вы что усвоили в институте? Что?.. Театр начинается с вешалки, да?.. Хорошо, мы это тоже знаем. Наш театр начинается ещё раньше — с парадных ступенек, кстати, разбитых и всегда неприбранных. Но наш театр имеет и нечто новое.
Репетиция только началась, а Маша уже с беспокойством посматривала на часы. Её сцена подойдет не раньше чем через час. Но она уже устала, она не может равнодушно слушать наставления Ветрова. Сколько раз, открывая дверь в театр, она давала себе слово покориться судьбе, не бунтовать, но это оказалось выше её сил. Бунт в душе возникал сам собой, малейшая фальшь её по–прежнему раздражала. Нет, она не могла ничего с собой сделать. Видимо, волнения, эти внутренние протесты и есть та самая естественная атмосфера, которая называется жизнью в искусстве. В другой раз она думала: «Почему я себя считаю правой, а все поучения режиссера подвергаю сомнению? Искусство вытекает из творчества, а творчество это поиск. Поиск же дает право на ошибки». Это давало на некоторое время успокоение.
— Займите второй план, — продолжает Ветров, и голос его органным вздохом отдается под сводами пустого зала. — Второй план, вам говорят!.. — Вы шаг налево, а вы — два шага назад…
Взглянув на молодую актрису, Ветров закричал:
— Руки ваши, руки как держите!..
Актриса испугалась внезапного окрика и замерла посредине сцены. Она забыла текст, разводку — потерялась окончательно. С мольбой смотрит на партнера, стоящего от нее в нескольких шагах, ждет подсказки. Простояв с минуту и не выдержав, махнула рукой, убежала со сцены.
Вдогонку ей Ветров примирительно пустил:
— Ну вот, садовая голова, совсем растерялась.
И, обращаясь к артистам:
— Работаем без перерыва. Текст вы не помните. Унисона с музыкой нет — я недоволен, недоволен…
Режиссер поднялся с кресла и по ковру между рядами кресел пошёл к задним рядам партера. Потом вернулся к передним и вновь пошёл к задним.
Он думал.
В позе Ветрова, в его манере «утопать» в глубоком режиссерском кресле, удаляться по главному проходу партера к задним рядам и там, скрестив руки, наблюдать за сценой было что–то величавое. И несомненно, молодые актеры верили режиссеру, ждали от него открытий, находок.