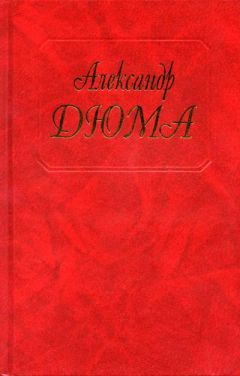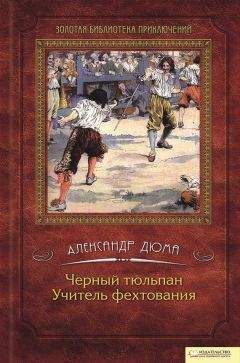Шарлотта покраснела от страха — как бы парфюмер, видимо, собираясь сделать какое-то разоблачение, не коснулся ее прежнего поведения в отношении Генриха; сделав вид, что всецело занята своим туалетом и ничего не слышит, она раскрыла коробочку с опиатом и, прерывая их разговор, воскликнула:
— Ах, Рене, поистине вы чародей! У этой помады чудесный цвет, и я хочу из уважения к вам попробовать при вас ваше произведение.
Она взяла коробочку и кончиком пальца захватила немного красноватой мази, чтобы намазать ею губы.
Рене вздрогнул.
Баронесса с улыбкой поднесла палец к губам.
Рене побледнел.
Генрих Наваррский, сидевший по-прежнему в полумраке, следил за всем происходящим жадным, напряженным взором, не упустив ни движения баронессы, ни трепета Рене.
Пальчик Шарлотты почти коснулся губ, как вдруг Рене схватил ее за руку; в то же мгновение вскочил и Генрих, чтобы ее остановить, но тотчас бесшумно опустился на диванчик.
— Мадам, простите, — сказал Рене с деланной улыбкой, — этот опиат нельзя употреблять без особых наставлений.
— А кто же даст мне эти наставления?
— Я.
— Когда же?
— Как только я окончу мой разговор с его величеством королем Наваррским.
Шарлотта широко раскрыла глаза, ничего не поняв из таинственного разговора, который вели рядом с ней; она так и осталась сидеть с коробочкой опиата в руке, глядя на кончик своего пальца, окрашенного мазью в карминный цвет.
Повинуясь какой-то мысли, носившей, как и все мысли молодого короля, двойственный характер: один — явный, как будто легкомысленный, другой — скрытый, глубокий, Генрих встал с места, подошел к Шарлотте, взял ее руку и стал подносить вымазанный кармином пальчик к своим губам.
— Одну минуту, — торопливо сказал Рене, — одну минуту! Соблаговолите, мадам, помыть ваши прекрасные руки вот этим неаполитанским мылом, которое я забыл прислать вместе с опиатом, а теперь имею честь поднести лично.
И, вынув из серебристой обертки прямоугольный кусок зеленоватого мыла, он положил его в серебряный золоченый таз, налил туда воды и, встав на одно колено, поднес все это баронессе.
— Честное слово, мэтр Рене, я вас не узнаю, — сказал Генрих. — Вашей любезностью вы заткнете за пояс всех придворных волокит.
— Какой чудесный запах! — воскликнула Шарлотта, намыливая руки жемчужной пеной, отделявшейся от душистого куска.
Рене до конца выполнил обязанности услужливого кавалера и подал баронессе салфетку из тонкого фрисландского полотна.
— Вот теперь, ваше величество, — сказал флорентиец Генриху, — можете делать что угодно.
Шарлотта протянула Генриху руку для поцелуя, затем уселась вполоборота, приготовляясь слушать Рене. Король Наваррский воспользовался паузой и вернулся на свое место, окончательно убедившись, что в уме парфюмера происходит какая-то чрезвычайно важная работа.
— Итак, что же? — спросила Шарлотта у Рене.
Флорентиец, видимо, собрал всю свою волю и повернулся к Генриху.
IV
СИР, ВЫ СТАНЕТЕ КОРОЛЕМ
— Сир, — обратился к Генриху Рене, — я пришел поговорить с вами о том, что давно меня интересует.
— О духах? — улыбаясь спросил Генрих.
— Да, ваше величество, пожалуй… о духах! — ответил Рене, подчеркнув последние слова.
— Говорите, я слушаю, этот предмет меня всегда очень занимал.
Рене взглянул на Генриха, пытаясь, независимо от слов, прочесть его тайные мысли; но увидав, что дело это совершенно безнадежное, продолжал:
— Сир, один мой друг должен на днях приехать из Флоренции: он давно занимается астрологией…
— Да, — прервал его Генрих, — я знаю, что это страсть всех флорентийцев.
— В содружестве с лучшими мировыми учеными он составил гороскопы самых именитых дворян в Европе.
— Так, так! — сказал Генрих.
— И поскольку род Бурбонов является вершиной самых знатных родов, так как ведет свое начало от графа Клермона, пятого сына Людовика Святого, то вы, ваше величество, можете быть уверены, что им составлен и ваш гороскоп.
Генрих стал слушать парфюмера еще внимательнее.
— А вы помните этот гороскоп? — осведомился король Наваррский с улыбкой, которой он попытался придать оттенок безразличия.
— О, — произнес Рене, утвердительно кивая головой, — такие гороскопы, как ваш, не забывают.
— В самом деле? — насмешливо проговорил Генрих.
— Да, сир; согласно указаниям гороскопа, вас ожидает блестящее будущее.
Глаза молодого короля невольно сверкнули молнией, тотчас погасшей в облаке равнодушия.
— Все эти итальянские оракулы — льстецы, — возразил Генрих, — а льстец — все равно что обманщик. Разве один из них не предсказал мне, что я буду командовать армиями? Это я-то!
Генрих расхохотался. Но наблюдатель, менее занятый собой, чем Рене, почувствовал бы в его смехе неестественность.
— Ваше величество, — холодно продолжал Рене, — гороскоп предвещает нечто большее.
— Он предвещает, что во главе одной из этих армий я одержу блестящие победы?
— Сир, больше этого.
— Ну, тогда вы увидите, что я стану завоевателем.
— Сир, вы станете королем.
— Святая пятница! Да я и так король, — сказал Генрих, пытаясь сдержать сильно забившееся сердце.
— Ваше величество, мой друг знает цену своим обещаниям; вы будете не только королем, вы будете и царствовать.
— Понимаю, — тем же насмешливым тоном продолжал Генрих Наваррский, — ваш друг нуждается в пяти экю, — не так ли, Рене? Ведь по теперешним временам такое пророчество сильно льстит тщеславию. Слушайте, Рене, я небогат, поэтому сейчас я дам вашему другу пять экю, а еще пять экю — когда пророчество осуществится.
— Сир, вы уже дали обязательство Дариоле, — заметила баронесса, — так не давайте слишком много обещаний.
— Мадам, надеюсь, что, когда настанет это время, ко мне будут относиться, как к королю; следовательно, если я сдержу даже половину своих обещаний, то все будут очень довольны.
— Ваше величество, — сказал Рене, — я продолжаю.
— Как, еще не все? — воскликнул Генрих. — Ну хорошо, если я стану императором — плачу вдвойне.
— Сир, мой друг везет с собой из Флоренции ваш гороскоп, еще раньше проверенный им в Париже и все время предвещавший одно и то же; кроме того, мой друг доверил мне одну тайну.
— Тайну, важную для его величества? — оживленно спросила Шарлотта.
— Думаю, что да, — ответил флорентиец.
«Он подыскивает слова, — подумал Генрих, не приходя мэтру Рене на помощь. — Высказать то, что у него на уме, как видно, нелегко».