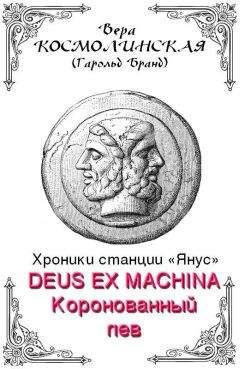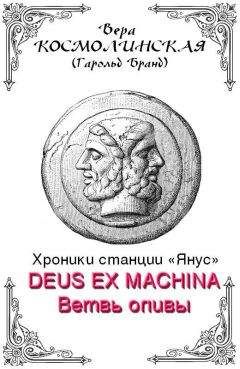— А? — переспросил я.
— Все ты понял, — сказал отец как само собой разумеющееся. — Хоть слова и старые, и даже не то, чтобы совсем не подходящие ситуации, но есть в них нечто… настроение, которое я назвал бы несколько революционным для нашей эпохи.
— Если только это не призма нашего собственного сознания, — почти рефлекторно возразил я. Хотя, к чему спорить, я должен был сам быть там, чтобы не строить теперь предположений.
— Все возможно, все, — спокойно ответил отец. — Но отчего-то, знаешь, «холодеет кровь».
Я почти неосознанно кивнул.
— А просто внешне, он выглядит или ведет себя как-то необычно?
— Немного возбужден, что вполне понятно. Но помимо этих слов, как будто, ничего необычного. По крайней мере, ничего необычного — явно.
Я снова задумчиво кивнул.
— Знаешь, мы слышали сегодня те же самые слова. От участников одной из обычных сейчас городских процессий. Они провозглашали, что «все мы христиане», «нет ни эллина, ни иудея» — та же самая цитата, призывали всех «хранить мир божий» и раздавали встречным зеленые ветви.
— Зеленые ветви он не раздавал, — сдержанно отметил отец, но посмотрел на меня явно заинтересованно, как-то настороженно оживившись.
— Но в целом, похоже.
— Или все же только кажется. Цитата ведь сама по себе известнейшая.
— Да, конечно. Но нас немного удивило, как вяло реагировали горожане. Без особенного удовольствия, но и без открытого раздражения. Если такова королевская позиция, — как и заметила Изабелла, — то, пожалуй, в этом нет ничего удивительного.
Отец задумчиво пожал плечами.
— А помнишь Моревеля? — спросил я почти неожиданно для себя самого. Но связь вдруг показалась мне такой яркой, буквально засиявшей в голове.
Он бросил на меня косой взгляд и выжидающе прищурился: «смеешься?»
— «Храните мир божий»! — сказал я. — Моревель в «Пулярке» задал всем вопрос, не слышали ли мы о Хранителях. Мол, это такой духовный орден, который проповедует… правда, что он проповедует, мы не услышали, его перебил тот чернобородый тип, что, возможно, затем его убил.
— Итак?..
— Королевский убийца и, возможно, королевский духовный орден…
— Ты видел среди этой процессии кого-то из своих знакомых? — мягко поинтересовался отец. Это не было похоже на возражение. Скорее, он хотел подтвердить какую-то возникшую у него самого мысль.
— Нет.
— Как ты думаешь, ведь наверняка там был бы кто-то тебе известный, будь этот духовный орден действительно королевским?
Я отрицательно покачал головой.
— В процессии все были явно невысокого звания, но разве это исключает их преданность королю? Или непременно какому-нибудь герцогу нужно лично раздавать прохожим зеленые ветки, если он может послать заниматься этим слуг?
В глазах отца мелькнуло веселье.
— «Вассал моего вассала — тоже мой вассал…» — перефразировал он. — Ладно, продолжай.
— Когда мы вернулись в «Пулярку» ночью и я в последний раз видел Моревеля на крыльце живым, он спросил: «Не правда ли, чудесен мир, сотворенный Господом?» — Отец никак не отреагировал, продолжая выжидать. — Но его интонация… Сейчас я думаю, что именно она меня так разозлила, хоть я понял это не сразу — он произнес это как пароль. На который ждал определенного ответа.
— Интересно, — проговорил отец. — Похоже, правильного ответа он не дождался за всю ночь. Хотя, может, как раз дождался… И что ты ему ответил?
— «А вы уверены, что он сотворен именно им?..»
Отец хохотнул.
— Ты неисправим со своими шуточками. А что же он?
— Шарахнулся, — ответил я покаянно.
— Я его не виню, — усмехнулся отец. — Но все-таки, так нельзя, держи себя в руках, не хотелось бы, чтобы тебя отлучили от церкви только потому, что тебе взбрело в голову пошутить. Что ж, Хранители, так Хранители, если не как причина, то как очередной симптом… посмотрим. Ну, так что же еще у вас произошло сегодня?
Вкратце обрисовав первую половину дня, я поглядел на него выжидающе — какую это у него вызовет реакцию.
Но он только кивнул.
— Да, — сказал он. — Рауль мне уже поведал эту леденящую кровь историю.
— Я, конечно, понимаю, что это был ненужный риск, зверство и большая глупость…
— Что сделано, то сделано, — отец пожал плечами, как будто, без какого бы то ни было осуждения. — Будем считать, что это просто опыт. А что же было потом?
И я перешел к рассказу о второй половине дня. Это вышло не так уж сложно. Рассказывать оказалось почти нечего, если исключить эмоции.
— Она испугана и сбита с толку, но я уверен, что они ничего не знают. К тому же, их образ жизни слишком спокоен и частен, чтобы они могли хоть на что-то как-то повлиять.
— Так что?..
— Так что, по крайней мере, с одним из главных моих страхов покончено, — заключил я.
— Ты так думаешь? — спросил он как-то отвлеченно.
Я печально улыбнулся, пожав плечами.
— Покончено всего лишь со страхом.
И хоть на этот раз все звучало еще более туманно, он задумчиво кивнул.
— Понимаю.
Наконец, поутру я добрался и до другого своего давнего главного «подозреваемого», за неимением прочих и настоящих, — капитана Мержи, просто и без затей застав его на квартире. Встретил он меня с неподдельной жизнерадостностью.
— Ну, дезертир, как частная жизнь? — Мержи лукаво ухмылялся.
— Недурно, — сказал я с улыбкой, пригубив золотистое вино. Это было настоящее токайское, капитан был не чужд экзотике.
В его комнате царил художественный беспорядок. Но не было ничего слишком нарочито привлекающего к себе внимания, за исключением оружия на стенах, среди которого я приметил и венгерские или польские сабли, а кроме того, в комнате находился третий человек, чинно сидевший на софе и оглядывавшийся порой вокруг с еще большим интересом чем я. Это был младший брат капитана, недавно приехавший на торжества. Но звали его не Бернар, как героя книги, а Жак-Анри. И я припомнил, что Мержи уже рассказывал некогда с горечью, что если Жак — это Иаков, то его отец непременно почитает его самого за Исава, променявшего первородство на чечевичную похлебку.
— Ты еще не женат? — поинтересовался капитан. — Ходят слухи, что ты влюблен, с самыми серьезными намерениями.
— Есть такое, — согласился я с некоторой настороженностью.
Мержи покачал головой.
— До чего же меняются люди, — промолвил он с мягкой улыбкой, не сводя с меня внимательного взгляда совершенно черных глаз. Пораздумав, я все же решил, что этот пристальный взгляд меня странным образом совсем не нервирует. Было в нем что-то очень живое и настоящее, и трудно было представить, что он мог бы быть где-то не только здесь и сейчас, в каком-то другом мире, ничуть не похожем на этот.