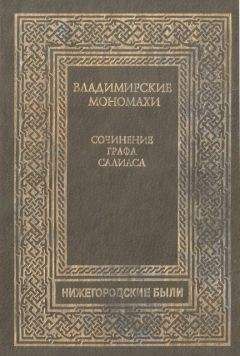В эту минуту он ничего не понимал.
– Без этого условия, – продолжала Алина, – я моего согласия на ваше предприятие не дам, какое бы оно ни было…
– Говорите, боже мой! – нетерпеливо произнес Шенк настолько громко, что многие обернулись и горячий cпop смолк на минуту. Алина увидела, что говорить теперь было мудренее, – их могли услышать.
– Надо обождать. Вы неосторожны. Говорите мне что-нибудь, – шепнула она.
Шенк громко стал говорить с ней о покупке лошадей.
Гости прислушались и снова заговорили и заспорили о чем-то.
– Слушайте же теперь внимательно! – произнесла, обождав, Алина несколько свободнее и громче. – Не удивляйтесь.
– Постараюсь. Хотя женщина вроде вас может удивить самого черта.
– Вы мне дадите важное поручение на неделю, по которому я должна буду уехать из Лондона. Не для англичан, конечно. А для Дитриха и Карла. Через неделю я вернусь…
– Куда же вы поедете? – мрачно и недоверчиво глянул на красавицу Шенк. Ее возбуждение, румянец на лице и особый блеск в глазах смущали его.
– Недалеко!
– Вы хотите бежать… не расплатившись со мной!
– Ах, как это глупо! Я вас считала умнее!
– Я вас считал проще… Я не люблю загадок, не люблю необъяснимых и таинственных поступков! Зачем вы поедете и куда? Вы хотите бежать от нас, то есть от меня!
– Если б я хотела скрыться от ваших преследований, то зачем же я сказала бы вам это, предупредила вас?
– Чтобы у меня же попросить денег на бегство от меня…
– Ошибаетесь. На это денег не надо! Я доеду отсюда до места назначения за несколько копеек.
– Куда же, наконец?
– За несколько улиц отсюда! Довольно с вас?
– Какое ребячество! Только женщины способны на такие выходки!..
– Но это серьезное и непоколебимое решение. Это мое условие sine quanon! [11] Согласны ли вы?..
– Конечно… но… право, дайте подумать. Зачем эта тайна? Зачем мне не сказать всего? Тогда я буду спокойнее. Ведь я – не Ван-Тойрс и не Дитрих. Вон они оба смотрят на нас и пожирают меня глазами, как если б я собирался убивать вас! Дураки! Нет, уж будьте милы, скажите мне все… Что это за проделка? Неужели глупое увлечение?..
– Я ничего более не скажу! – сурово произнесла Алина. – Согласны вы дать мне отпуск на неделю и обмануть моих аргусов?..
– Через полчаса я вам дам ответ! – выговорил Шенк.
– Хорошо… Но прибавлю еще… для вас. Не бойтесь. Я честная женщина. Столько же честная, сколько прихотливая и капризная. Je suis fantasque! [12] Но честная!..
– Да. Мы ведь все здесь честные! – выговорил вдруг Шенк с таким ядовитым смехом и таким презрением, что снова многие обернулись на него. Алину, еще не совсем примиренную с ее новым низким положением, кольнуло в самое сердце…
Через полчаса Шенк, передумав многое и взвесив многое, успокоился, убедился и поверил, что Алина его не обманет.
– Это просто какая-нибудь причуда! – рассуждал он. – Но чего же она церемонится с этими воробьями, если они ей настолько надоели и настолько стесняют? Сказала бы мне! Я их тотчас прибрал бы в сторону.
Подойдя к Алине, говорившей со стариком адмиралом, Шенк вымолвил, не стесняясь:
– Я согласен на ваше условие и совершенно спокоен. А об двух аргусах не беспокойтесь!..
Алина весело улыбнулась и протянула Шенку руку.
Через минуту Алина объявила гостям своим, что она должна по одному делу отлучиться из Лондона на континент при первом попутном ветре.
– Если буря не занесет мой корабль в Исландию, то я скоро буду и назад! И прошу снова не забывать меня.
Гости не удивились. Но трое из присутствующих смутились. Дитрих глядел испуганно, Ван-Тойрс недоумевал… А третий, юный граф Осинский, глядел, не спуская глаз с Алины, и сердце его билось сильнее.
– Она просила его отложить отъезд в Париж?! А теперь сама собирается на континент… С ним, стало быть!..
Но через несколько мгновений Осинский переживал иное чувство с юношеской болью в сердце, не привыкшем еще к страданию.
Алина, улучив мгновение, чтобы никто не заметил их разговора наедине, передала Осинскому грустное для него известие и разочарование.
– Я должна ехать в Копенгаген; когда я вернусь в Лондон, вас, вероятно, уже не будет здесь. Следовательно, бог знает когда мы увидимся… Вероятно, никогда! Сохраните обо мне доброе воспоминание. Эта случайность – к лучшему. Если б мы дольше оставались вместе и виделись, то бог весть что могло бы случиться…
И Алина, быстро отошла от Осинского, но хорошо заметила, что он стал бледен как полотно.
Грустный и смущенный вернулся в этот вечер к себе домой граф Осинский. Он жил в самой элегантной и красивой части Лондона, невдалеке от здания, занимаемого польским посольством. Молодой человек вел жизнь скромную в смысле порядочности.
Никто так не горд своим происхождением и не дорожит так именем, которое носит, как польский аристократ. Для молодого графа Богдана его фамилия была как бы сокровищем, семейным драгоценным кольцом или благословением матери, – нечто, что ему родные дали при разлуке с наставлением беречь как зеницу ока, чтобы не потерять в нравственном смысле.
И Богдан помнил постоянно, что он, Осинский, родня первых польских фамилий и некоторых польских королей, внук Осинского, бывшего напольным гетманом литовским.
Часто юношу тянула молодая, бурливая кровь ко всякого рода увеселениям, и зрелищам, и забавам, где мог он быть не последним, но он боялся там запятнать свое имя!.. И оберегая, по завету матери, свое имя, он, бессознательно для себя, уберегал от пятна свою душу. Уже три года, как он был в Лондоне при посольстве и, имея при скромном образе жизни много лишних денег, ни разу не окунулся в мир кутежей, карт, женщин, поединков и частых скандалов.
Но зато граф Богдан начинал невыразимо скучать… Честолюбия у него не было; работы в посольстве он справлял неохотно… Что ему, графу Осинскому, если он достигнет даже звания посла, когда его предки по бабке были королями?.. Вдобавок, молодой человек скучал и грустил, как истый патриот, так как последние политические события хотели, казалось, привести его отечество на край гибели. Предчувствовалась всюду в Европе политическая смерть его родины.
Король Станислав-Август протестовал через всех своих посланников против насильственного захвата коронных земель, но никто из сильных государств Запада – ни Англия, ни Франция – не могли помочь и не хотели из-за Польши ссориться с тремя великанами Востока: с Фридрихом, Екатериной и Марией-Терезией – будущими великими в истории.
Первый раздел совершился невозбранно, и польские патриоты предвидели уже второй раздел и исчезновение отечества, de jure [13] , с карты Европы, то есть гражданскую смерть родины.