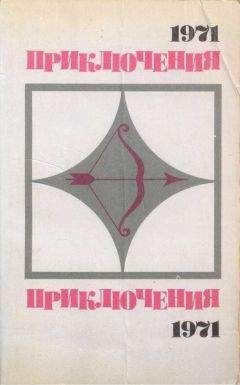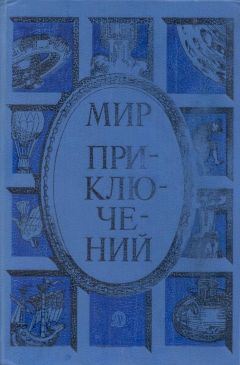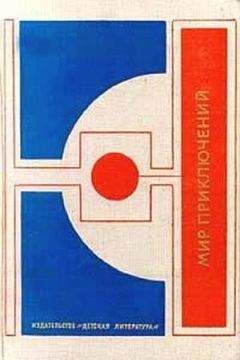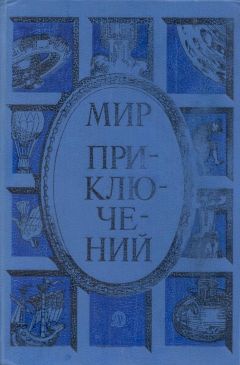На крыльце сельсовета Кравец вынул карманные часы, подаренные ему разведотделом 9-й армии весной 20-го года. Это были большие серебряные часы швейцарской работы, на крышке которых изящно было написано: «Доблестному разведчику Дмитрию Кравцу за подвиги во имя Революции».
Фигурная стрелка, по выделке своей представлявшая почти произведение искусства, показывала четверть двенадцатого.
Чалый остался в сельсовете с поручением собрать сведения о людях, проживавших когда-либо в городе. Он должен был также выяснить их прежние специальности. Ибо если деньги печатают в Трутной, то это может делать лишь человек, живший в городе и знакомый с технологией изготовления денежных знаков.
Пройдя немощеной площадью, на которую с западной части наступала громоздкая, как гора, церковь, Кравец свернул в проулок, ведущий к дому Щербаковых. Перед домом по-прежнему было людно. И еще стояла милицейская повозка. И тело лежало на ней, прикрытое бледно-розовым байковым одеялом.
Представитель угрозыска сказал Кравцу:
— Коль наша помощь не требуется, мы уезжаем...
— Позаботьтесь о медицинском заключении, — попросил Кравец.
Врач и участковый милиционер уже сидели в телеге.
— Хорошо, — ответил опер. И пошел рядом с лошадьми.
Мать Люси заплакала. Скрип колес оказался тем последним звуком, после которого не хватило сил сдерживать, таить в себе горе.
Кравец осторожно взял ее за локоть.
— Я хочу посмотреть бумаги вашей дочери. У нее были какие-то бумаги?
— Да, — остановилась женщина. — На этажерке есть целая папка. И еще она вела дневник. Прятала только, скрывала, глупая, даже от меня.
— Товарищ уполномоченный! — старик Сильнейших, кажется, бежал или шел очень быстро, потому что был потный и дышал часто. — Женька Жильный при доме объявился.
Нельзя сказать, что Жильный произвел на Кравца отталкивающее впечатление. Но вид небритого, заплывшего лица с глазами мутными, воспаленными не доставлял особого удовольствия.
Жена Жильного — молодая, изможденная женщина — и сынишка лет четырех смотрели с таким жалостливым испугом, что Кравцу стало не по себе. Он попросил:
— Оставьте нас вдвоем.
Женщина прикрыла дверь с такой осторожностью, точно она была из хрупкого стекла.
— Вы всегда жили здесь? — спросил Кравец.
— Нет. Два года я работал в Тихорецкой. Слесарем в депо. Там и оженился.
— Как попали в Трутную?
— Дом после матери остался.
— Где провели сегодня ночь?
— Не помню.
— Это не ответ.
Женька Жильный пожал плечами:
— Проснулся у леса. В стоге сена.
— Когда последний раз видели Люсю Щербакову?
— Не хочу об этой стерве и разговор держать.
— Убили ее сегодня ночью.
Нет. Не вздрогнул Женька, не ахнул, не раскрыл рот в удивлении. Только покосился на Кравца недоверчиво, подозрительно. Потом, облизав губы, хрипловато сказал:
— Не загибайте.
— А я и не загибаю, Женя. Правда это. Разве жена тебе не говорила?
— Она уже месяц со мной не разговаривает. К матери грозится уехать.
— Довел, значит.
— Точно. — Жильный потер ладонью подбородок. Потом вдруг спросил: — Колька Бузылев-то где?
— Нет Кольки в станице. В Лабинске он со вчерашнего дня.
— Вы с Колькой про это дело потолкуйте. У него догадки и соображения возникнуть могут.
— А у тебя соображений нет?
— Не убивал я ее. И баста.
— Свидетели есть, что ругался ты с ней вчера. Ночью пьяные песни твои слышали...
— Я здесь со всей станицей переругался. И песни по пьяной лавочке почти каждую ночь пою.
— Для следственных органов это все слова. Свидетельства против тебя. Алиби нет.
— Что за алиби?
— Алиби. По-латыни — в другом месте. Юридический термин. Нахождение обвиняемого в момент, когда совершилось преступление, в ином месте, как доказательство его непричастности к преступлению.
— Я в другом месте и был.
— Это еще выяснять надо. А пока придется задержать тебя, Женя.
— За что?
— По подозрению.
Ничего не ответил Женька Жильный представителю власти. Может быть, он и выругался бы сгоряча или запротестовал. Да не успел. Проскользнула в комнату жена его, бледнее тумана. Шепчет, словно страхом давится:
— Дом Щербаковых горит...
Дым карабкался вверх не густой, не темный, а скорее белесый, как над хорошо гудящим костром. Кое-что из скарба громоздилось посреди улицы, где стояли люди, удрученные новой бедой, нагрянувшей в станицу. Пожар начался в то время, когда почти вся станица вышла за околицу проводить милицейскую телегу.
Стены еще не горели, но было очевидно, что дом невозможно спасти, потому что камышовая крыша пылала, словно факел. Отчаянно выла соседская собака, привязанная веревкой к старой, искореженной груше.
Одна женщина говорила другой:
— А Колька Бузылев, как увидел телегу, лицом что смерть стал. Ни словечка не вымолвил и бежма в станицу.
Мать Люси сидела на зеленом деревянном чемодане. И Кравец понял, что седины у женщины прибавилось за это утро много. Он спросил:
— Дневник дочери спасли?
Женщина не подняла взгляда, медленно покачала головой:
— Там он.
— Где? — это Чалый. Он, оказывается, здесь.
— На гардеробе, во второй комнате.
Что греха таить, не ожидал Кравец такой самоотверженности от своего помощника. Другие присутствующие на пожаре люди просто вообще не знали Чалого. Потому их не столь удивил, сколь обеспокоил поступок человека, опрометью бросившегося в огонь.
С воловьей медлительностью потянулись секунды, а пламя, точно в отместку за дерзость, перекинулось на крыльцо, заслонило выход... Потом вдруг крыша стала оседать с потрескиванием мыльной пены, пламя на секунду исчезло, и сноп искр вырос над домом, красиво устремляясь в небо.
...Чалый выпрыгнул через окно. Он выпрыгнул неудачно, видимо, вкладывал в прыжок последние силы. Он уже не мог без посторонней помощи подняться с теплой, пахнущей гарью земли, но прижимал к груди сероватую общую тетрадку, на которой фиолетовыми чернилами было написано: «ДНЕВНИК ЖИЗНИ».
— Надо брать Сильнейших, — выдавил Чалый.— Если, конечно, дед еще не ушел, не смылся...
6
«— Пойду за тебя замуж, — сказала я Николаю. — С двумя условиями: даешь слово не пить и рвешь дружбу со стариком Сильнейших.
— Пить я брошу. За исключением, конечно, государственных праздников и дней рождения. И с Сильнейших дружбу порву. Только не в один день. С ним нельзя так. Страшный он человек».
Это была последняя запись в дневнике Люси Щербаковой. Ее-то и успел прочитать Чалый там, в горящем доме. Как он успел это сделать? Может, Чалый не смог объяснить бы и сам.