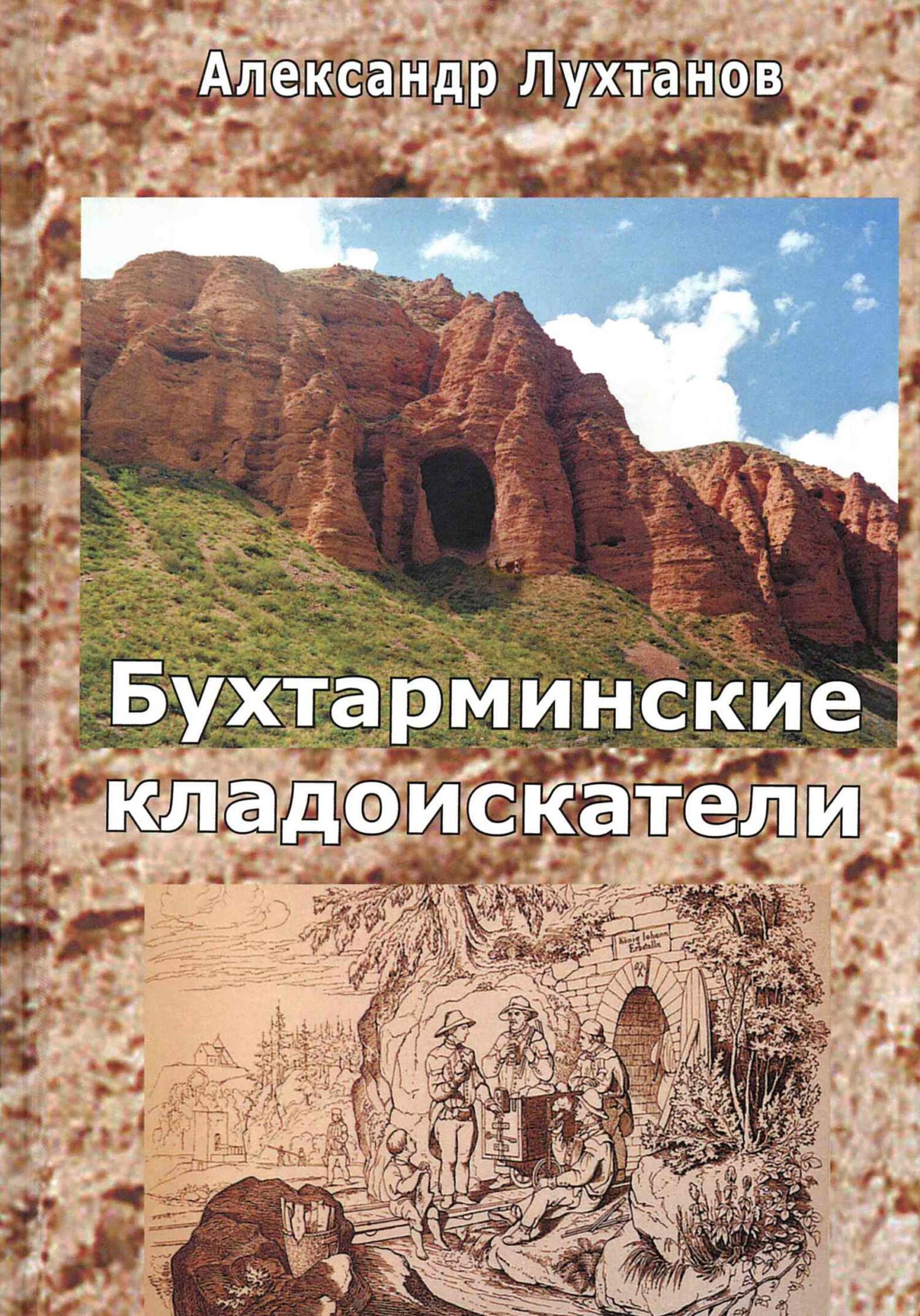власть.
Когда все отхлынули, Надя с замиранием сердца и чуть не дрожа от ужаса, тоже заглянула в гроб. Там лежал страшный мертвец в истлевшем мундире, на котором можно было разглядеть ордена и даже шпагу на боку. Пугающе жутким был взгляд пустых глазниц на жёлтом черепе.
Рабочий санэпидемстанции торопливо заворачивал в бумагу перечисляемые музейшиками предметы.
— Не забудьте составить перечень забранных артефактов, — напомнил Борис Васильевич и вдруг, наклонившись, с удивлением произнёс: — А шпага-то, похоже, серебряная! Да, так оно и есть. Не заржавела, хотя и изрядно потускнела. А что, — продолжал он, — Колывано-Воскресенские заводы чеканили свою монету, серебра было навалом — чего им стоило втихаря от Петербурга изготовить такую вот дорогую игрушку? Так что, смотрю, недаром вы, Наталья Борисовна, приезжали к нам. Ценный экспонат, — добавил он, садясь в свой легковой «газик».
Начальник уехал, но до конца дня разрыли и другие могилы — видимо, служителей церкви. К сожалению, не так аккуратно, но предметов нашлось там ещё больше. Кроме останков ряс и одежды были медальоны, называемые панагией, и ещё какие-то блестящие знаки, ни наименования, ни назначения которых никто из присутствующих не знал. Ребятам же запомнилась обувка — штиблеты, видимо, когда-то хорошего качества, с подошвами из нескольких слоёв кожи. Вылезший, чтобы посмотреть на диковинную обувь, экскаваторщик Мартыныч важно и удивлённо произнёс, качая головой:
— Надо же, это для чего столько слоёв? Для скрипа или для гибкости, чтобы легче ходить?
А Станислав, бывший тут же, в задумчивости сказал:
— Где-то здесь похоронен и священник Соколов, и его дочь, разбившаяся при падении с лошади. Но теперь ничего не узнаешь, где их могила. В советское время порушили все надгробия. А ведь ещё француз Ламартин сказал: «На прахе умерших покоится Родина», а у нас повсюду кладбища превратили в парки. Хотя, может быть, это и не самый худший вариант. Сейчас не хотят вспоминать, как год назад чуть ли не посреди карьера раскопали нигде не отмеченное старинное кладбище, о котором не знали даже старожилы города. Из забоев вываливались человеческие кости, сыпалась чёрная труха от сопревших гробов, локоны рыжеволосых красавиц свисали с глиняных откосов. Черепа лежали, разбросанные по полю. Конечно, это было кощунством, но быстро всё кончилось — кладбище-то было небольшое. Это сейчас Борис Васильевич принял меры — выкопанные останки будут захоронены по-человечески.
Подхоз, пасеки — всего-то мальчишек и девчонок в школе интерната наберётся полсотни. Все наперечёт, все знают друг друга, но на вкус, на цвет товарищей нет. Кучковались по интересам. К братьям Дементьевым льнули ребята из классов помладше: Егорка и Агафон.
Егорка — белобрысый мальчик лет четырнадцати. Вихрастые его волосы почти белые, с желтоватым оттенком. Из-за них в школе его прозвали альбиносом. Это как белая ворона среди тёмных и чернявых пацанов. Когда Егорка был маленьким, мама ласково называла: «Ты мой блондинчик». Но это давно было — теперь Егорка почти взрослый, и мамка уже не такая ласковая, всё ворчит, всё недовольна, а может и подзатыльник дать.
Сколько себя помнит Егор, вокруг всегда был лес. Лес, изба о четырёх окнах, рядом приземистые сараюшки для скота, которые на Алтае называются стайками. Там, в тёмном хлеву стоит корова Зорька с телёнком. Стоят, пережёвывают жвачку. По утрам мать гремит подойником, бродят по двору куры с крикливым петухом. Молчаливый отец все дни проводит на пасеке, поставленной невдалеке на лесной опушке. Восемь месяцев в году школа в интернате в Столбоухе с отлучкой домой лишь по выходным. Есть у Егорки любимое дело — охота. Да вот времени на неё маловато, да и припасы — дробь, порох — надо добывать. Они денег стоят, а денег в доме всегда не хватает. А ещё у Егорки есть друг — непородистая лайка Байкал. Весёлая, ласковая и, так же, как и Егорка, любительница погоняться за тетерями в берёзовом лесу. Родители ворчат: помогать им всегда надо по хозяйству. А ведь Егорка редко возвращается пустым — то косача принесёт, а бывает, и зайца. Всё родителям подмога, в семье ведь ещё есть младшие брат и сестрёнка. Осенью, в сентябре-октябре, бродит Егорка с Байкалом, гоняет тетеревов в зарослях калины, рябины, шиповника, а как снег в ноябре ляжет — может и из шалаша на берёзах косача сбить или подстеречь с подхода, когда они в мороз под снегом сидят. Конечно, бывает, и рябушки-рябчики попадаются, но так уж они малы, что и заряд на них жалко тратить. Любимые места у Егорки — опушки берёзовых колков по гривам и хребтам над Хамиром или Большой Речкой. Тут уж Егор знает каждый куст, каждую косачиную ухоронку в шипичнике или кисличнике, где они кормятся, пока снегом не засыплет, не заровняет все карагайники. Из всех охотничьих приключений больше всего Егорке запомнился случай, когда он, перебираясь через замёрзший ручей, провалился в яму с водой. Как тогда Байкал сочувствовал ему — скулил и прыгал вокруг, а помочь ничем не мог! В обмёрзшей одежде прибежал он домой и тут уж был руган по первое число, прежде чем разделся и забрался на печь отогреваться.
В школьном интернате ребята все друг друга знают, и хотя Егорка на год младше Стёпы, братья с ним подружились. Рома со Стёпой тоже на косачей хаживали, и тут Егор даже опытнее их. Стёпа весной как-то предложил:
— А что, Егор, ты всё по одним и тем же горам бегаешь, а что если мы летом подальше подадимся? Как ты на это смотришь?
— Это куда ещё и для чего?
— Ну хотя бы побывать в соседних ущельях. Говорят, долина Тургусуна красивая. На Тегерек можно сходить. А ещё мы старину ищем.
— Значит, историей интересуетесь?
— А я думаю, летом надо обязательно в Уймоне побывать, — словно отвечая на вопрос Егора, задумчиво сказал Роман. — Там же был второй центр каменщиков. И не так уж это далеко, надо только Холзун перевалить. Возможно, там лучше старина сохранилась.
— Ура! — обрадовался Егор. — В Уймоне когда-то моя бабушка жила.
— Может, и сейчас там есть кто из родственников? — поинтересовался Роман. — Кстати, у вас в семье не сохранилось что-нибудь из старинных вещей? Иконы, книги?
— Есть самовар медный, утюги чугунные. Какая-то книжка древняя, вся замасленная и потрёпанная, лежит у матери. Но она мне её не даёт.
— Церковная, значит. Возможно, ещё с восемнадцатого века, — высказал догадку Роман.
— Значит, мы тоже живём в стране каменщиков, хотя здесь уже никто не знает об этом и не помнят о своих предках.
— Знают про