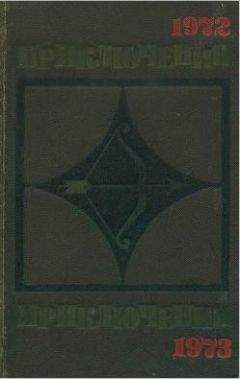Старик стал думать о сыне и опять вспомнил о его бумагах. Захотелось еще взглянуть на них. Он вошел в комнату сына, открыл сундучок, снова развернул бумаги и начал рассматривать.
— Да, это его почерк, Турсуна, — вслух рассуждал он. — Буквы круглые и влево наклонены. Так он и писал, помню. Что ж, может, и нужное записал здесь, да поди узнай, так ли, — двадцать уж лет прошло, и спросить некого. Хотя… — Старик задумался, потом свернул бумаги, взял под мышку и зашагал к чайхане Саксанбая, друга своего, сын которого учился в школе вместе с Турсуном.
* * *
В чайхане никого не было, Саксанбай усадил друга на самое почетное место, поставил перед ним два фарфоровых чайника с зеленым чаем, принес две пиалушки и сам сел рядом.
— Как хорошо сделал, дорогой, что зашел навестить! Теперь твоя забота — отдыхать, годы уже не те, пусть молодые поработают. Сад какой для колхоза вырастил, красота, мимо не пройдешь — залюбуешься!
— Да я отдыхаю достаточно, не устаю, — ответил, улыбаясь, Назир.
— Нет, нет, не говори, не улыбайся, друг, правда, хватит с тебя, давно хотел сказать, да ждал, пока сам решишь, потому молчал… Годовщина уж миновала, успокойся, не гни спину каждый день! Правду говорю, в жизни ты свое уже совершил.
— Да, видно, прав ты, — согласился Назир, — и сам замечаю, в последнее время жару плохо переносить стал…
— Вот-вот… — вставил Саксанбай.
— А ты как, смотрю — молодцом держишься? — в свою очередь начал осведомляться Назир.
— Да что я… — вздохнул Саксанбай. — Спина доняла, шайтан ее забери! Не отпускает теперь ни днем ни ночью, ноет и ноет, проклятая!
— Застудил, что ли? — отхлебнув из пиалы, спросил Назир.
— Да кто ж ее знает? Думаю, старое сказывается, — помнишь, упал я с лошади на козлодрании, тогда так же болела…
— Разве спина помнит столько, а, Саксанбай? Двадцать уж лет минуло!
— Больше! — улыбаясь, поправил чайханщик. — А хорошо тогда было, что за время, так я говорю?
— Да, молодость… Помню, народ собрался из всех кишлаков окрестных. Ты чью лошадь гонял?
— Зачем мне чужая? Мой гнедой чем плох был, скажи? А ты, как помню, председательского жеребца брал?
— Да-а, хороший жеребец был, нрава крутого, председатель его боялся… Здорово я тогда разделал Мели, а?
— Еще бы! — согласился чайханщик, и оба расхохотались, причем Назир раскачивался в смехе, а Саксанбай держался за больную поясницу, не забывал о ней.
— Постой, постой, — сказал чайханщик, отсмеявшись, — ты это про какого Мели говоришь?
— О рябом Мели, что из Кумарыка.
— Из Кумарыка? — Саксанбай поморщил лоб.
— Ну да, помнишь, рябой Мели, он еще сына в Ташкент учиться отправлял. В позапрошлом году хоронили его, рябого Мели…
— Э-э, все вспомнил, все! Ну конечно, ты его тогда здорово разделал! — и Саксанбай снова зашелся смехом так, что даже забыл о больной спине.
— Я козла ногой прижал, крепко держу, а он у меня вырвать хочет, не отстает… — сквозь смех рассказывал Назир. — «Отпусти, — кричу, — добром прошу!» Не отпускает. Ну, я как рвану вперед — он прямо на землю…
— Хорошо, я тогда подоспел, — он хоть и свалился, а козла не выпустил…
— Да, хорошо, конечно. Только как же ты упал, за тобой ведь никого не было?
— Подпруга, верно, ослабла, не помню уже точно. Пыли я тогда наглотался — вот этого не забуду! — У Саксанбая аж слезы выступили на глазах от хохота. — Лежу, пыль глотаю, а сам о козле только и думаю и тебя зову…
— Да, а я тогда не мог вернуться к тебе, гнал прямо к шашлычнику — ему козла бросить…
— Ничего, ничего, мой младший подоспел, поднял меня, с поля на себе вытащил…
— Так ты за собой теперь как следует смотри, — уже всерьез советовал Назир, а Саксанбай, вспомнив про поясницу, снова взялся за нее руками и рассказывал:
— Осенью собираюсь в Чартак, грязью там лечат. В пыли заболел, может, в грязи вылечусь, как думаешь? Слушай, может, и ты соберешься со мной, поищи в себе болезнь подходящую, а?
— Ну когда мне болеть, на кого сад оставлю? Послушай-ка лучше, совета хочу спросить твоего. — Назир положил перед Саксанбаем бумаги своего сына. — Утром убирали мы с внучкой комнату старухи моей да нашли вот — Турсун оставил… Не знаю, как быть, — может, нужное что. Посмотри-ка…
Чайханщик развернул бумаги, повертел в руках, видать, не понял в них ничего — и молча вернул.
— Когда провожали Турсуна в армию, помню, он бумаги свои разобрал, что-то повыбрасывал, учебники да тетради у нас лежат перевязанные, а про эти карты ничего не сказал… — рассуждал вслух Назир. — Но если б ненужные были, не стал бы хранить их, правду я говорю?
— Что ответить тебе, Назир? Не ученый я человек, чайханщик простой, не для моих глаз написаны бумаги эти… Сын мой, сам знаешь, в Афганистане работал, сейчас погостить приехал — так ему бы показать, а нам, старым, ученость сыновей — отрада сердцу, но не пища уму.
— Внучка говорит, там гора наша нарисована.
— Семь вершин, что ли? Тогда на самом деле проверить надо, думаю, нужные бумаги, не пустые.
Саксанбай послал пробегавшего мальчонку позвать сына, и, когда тот пришел, оба старика с надеждой обратились к нему — пусть поглядит, разберется, скажет.
— Я не геолог, — ответил сын чайханщика, посмотрев на бумаги, — но вижу, здесь разрез пласта. Думаю, Турсун обозначил на карте месторождение полезных ископаемых. Как, ходил он к Семи вершинам?
— В последнее свое лето перед армией часто там пропадал и товарищей своих туда водил… — вспомнил Назир.
— Значит, надо вам ехать в Ташкент, показать бумаги эти в геологическом управлении. Начальника их я знаю — попрошу разобраться. Отпуск мой кончается, послезавтра я еду в Ташкент. Хотите — поедем вместе?
На том и порешили.
Сын чайханщика ушел, а старики долго сидели еще, пили чай, молча размышляли о своем. Потом Назир сказал:
— Друг, я не получил еще пенсии…
Но он не успел договорить. Саксанбай протянул ему две красные десятирублевые бумажки.
Домой Назир возвращался повеселевший, будто ждало его впереди что-то очень хорошее. Когда сели с внучкой обедать, объявил ей:
— Послезавтра еду в Ташкент.
— Зачем? — испугалась Зулейха.
— Сын Саксанбая возвращается в Ташкент, довезет меня, а там надобно пойти в геологическое управление, показать бумаги Турсуна, — так ученый человек говорит.
Зулейха не противоречила, — знала: если дед настроился на что-нибудь, отговаривать бесполезно.
Вечером, улегшись уже в постель, продолжал Назир, как утром, в мыслях своих говорить с женой:
«Я не устал, Зейнаб, совсем не устал, — видишь, в Ташкент хлопотать поеду. Кто знает, может быть, жизнь нашего мальчика оставит славный след, и будет он длиннее его короткой судьбы… Хорошо, что пришла ты ко мне во сне, подсказала, где искать. Спасибо тебе говорю, а может, и другие скоро спасибо скажут…»