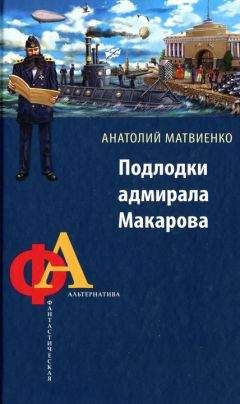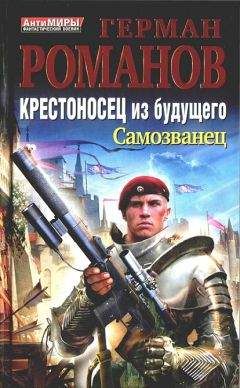– Давима Марковна? - почтительно осведомился седой, глядя на вошедшую.
– «Давима Марковна, Давима Марковна»! - передразнила Гоцман, для убедительности извлекая из кобуры свой собственный ТТ. - Стволы на стол.
Седой, не отрывая глаз от оружия Гоцман, аккуратно принял «вальтер» из дрожащей руки молодого бандита и по цепочке передал угрюмому громиле, сидевшему во главе стола. Громила бережно взял пистолет двумя пальцами и медленно положил на пол. Остальные под пристальным взглядом Давы повторили ту же операцию. На крашеном деревянном полу выросла горка оружия.
“Все”, - устало подумала Гоцман. - “Можно будет поспать… Хотя нет… Какой тут сон! Сейчас хлопцы придут”.
Тупо, неприятно колотилось сердце. Начало колотиться, еще когда она во дворе с этим парнем возилась… Она взглянула на лежавшего на полу Сеньку. Из раненой ноги натекла порядочная кровавая лужа.
“Надо бы перевязать”, - подумала Гоцман равнодушно.
– Давима Марковна, мы таки выпьем? - вежливо спросил седой, аккуратно вытирая с чисто выбритой щеки брызги борща.
Гоцман кивнула. Она чувствовала, что очень устала этой ночью. И сердце продолжало биться чаще, чем следовало. Бандиты встали, молча опорожнили рюмки. Не глядя на них, Гоцман подошла к окну и ударом ладони распахнула ветхую раму. Еще один выстрел расколол тишину одесской ночи.
Примерно через полчаса в той же комнате капитан Леха Якименко, пыхтя от усердия, распарывал финским ножом штаны на самом молодом задержанном, парнишке с серым лицом. Придерживая брюки кистями связанных рук, тот неловко уселся спиной к стене, в ряд с другими бандитами, и растерянно спросил непонятно у кого:
– И как же мы теперь пойдем?..
– Небыстро, - объяснил Якименко.
На столе майор Довжик обстоятельно, словно сложный пасьянс, раскладывал листы протоколов обыска. Тишак, гордый порученной ему ролью, водил по коридору испуганных заспанных понятых.
Придирчиво окинув задержанных взглядом - все ли в порядке, - Якименко кивнул и, на ходу извлекая из внутреннего кармана кителя папиросы, направился на кухню.
Гоцман сидела на полу, тяжело привалившись спиной к стене. Женская ладонь лежала на сердце. Давима тяжело, нехорошо дышала. Щуплый, похожий на немолодого, много повидавшего в жизни скворца, Фима Петров по кличке Фима Полужид поил её водой из стакана, что-то жалостно приговаривая.
– Давима Марковна, и вот на кой вы сами-то полезли!.. - снова пряча папиросы, укоризненно произнес Якименко. - Я ж молодым мозги ставлю, а вы… Ну чисто ребенок, ей-богу.
Фима, не выпуская из рук стакана, зло мотнул головой в сторону Лехи — уйди, мол. А сам плачущим голосом продолжал вразумлять начальство:
– Додя, извиняюсь, но ты босяк - некому задницу надрать! Пять пистолетов - не пачка папирос, они таки по случаю стреляют! Ты же не окно женской бани, зачем у тебе дырка?!
– Ай, Фима, уйди… - ворчит женщина старому другу.
– Таки хорошо, - кивнув, Фима оставляет Давиму одну, идя к другим операм.
Гоцман мутно слушала болтовню любящих её людей, ощущая, как усталое сердце не справляется с её телом. А еще она видела, как на пороге мнется мальчик, пряча за спиной скрипку. Мальчику отчаянно хотелось спать, он изо всех сил старался не зевать, но еще больше хотелось знать, что происходит в этой непонятной квартире, где по ночам ходят люди, стреляют в воздух и арестовывают всех подряд.
Гоцман попыталась улыбнуться мальчику, но вместо улыбки лицо исказила гримаса боли. С трудом справившись с собой, она подмигнула маленькому скрипачу. Тот, робко улыбнувшись, подмигнул в ответ.
***
Некоторое время спустя.
Всё та же Одесса.
Квартирка Гоцман.
Дома у Гоцман пахло лекарствами - остро и тревожно. Сама Гоцман огромной, тяжело дышащей глыбой громоздилась на кровати, рядом с ней с озабоченным лицом сидел судмедэксперт - немолодой, седоусый подполковник медицинской службы Арсенин. Вслушивался в биение сердца через стетоскоп.
Фима Полужид, теребя в руках тюбетейку, нервно кружил по комнате и непрерывно что-то рассказывал, не обращая внимания на то, что никто его не слушает:
– Та она и с детства такие номера откалывала. На Пересыпи как-то три некрасивых пацана привстали на дороге, как шлагбаум. Повытягали из карманов перья-кастеты и сами себе смелые стоят. С понтом на мордах - сделать нам нехорошо. Так Дава, ни разу не подумав, пожала им сходу челюсти. Они с такого «здрасте» побросали свой металлолом, схватили ноги в руки и до хаты - набрать-таки еще пять-шесть солистов до ансамбля. Ну, при такой заветренной погоде неплохо ж пробежаться. Таки нет! Она встала столбом.
– Фима, - еле слышно пробасила Давима, с трудом разлепив веки. - Закрой рот с той стороны. Дай доктору спокойно сделать себе мненье.
– Мне не мешает, - отозвался Арсенин, откладывая стетоскоп и открывая потертый саквояж, стоявший на полу.
При виде шприца, извлеченного врачом из саквояжа, Фима умолк и, пятясь, поспешил ретироваться.
Галерея, на которую он вышел, вилась вокруг дома, старого одесского дома - давно вышедшего на пенсию инвалида, знававшего лучшие времена. И двор был такой же - похожий чем-то на двор Сеньки Шалого и еще на сотню других одесских дворов. Были тут и полуобгоревший каштан со стволом, иссеченным осколками недавней войны, и разрушенная авиабомбой стена каменного сарая, и покосившаяся голубятня, небрежно выкрашенная в синенький мирный цвет…
И конечно, тут была своя тетя Песя. Она смотрела на Фиму подозрительно и с любовью, как умеют только много пожившие одесские тети.
– Добрейшего вечерочка, Фима. А где у нас случилось?
– Пара незаметных пустяков, - любезно ответил Фима, облокачиваясь о перила. - Вам шо-то захотелось, мадам Шмуклис?
– Немножечко щепотку соли. Эммик, такое счастье, надыбал глоссика!
– Скажите, пожалуйста, Два Больших Расстройства и надыбал глоссика?! — изумился Фима.
– Таки да!
– Целого?! Или одни плавнички?
– Целого и виляет хвостом, как скаженный, - гордо ответствовала тетя Песя.
– Так надо ж жарить. По такой густой жаре глоссик долго не протянет…
– А я за шо? - пожала плечами тетя Песя.
Эммик, он же Два Больших Расстройства, — сын тети Песи, круглый, как шар, и нелепый, как вся жизнь, если взглянуть на нее с хвоста, — неторопливо вышел на галерею, прижимая к полной груди длинный нож и глоссика. Камбала энергично боролась за существование. Её тинистые глаза смотрели на Эммика с ненавистью, а белое жирное брюхо словно пыталось его отпихнуть.
– Мама, он проснулся и не хочет, - обиженно сообщил Эммик, не давая камбале вырваться.
Тетя Песя, ахнув, бросилась к сыну:
– Не трогай нож, халамидник! Ничуть не трогай!..
Не ожидавший такой активности сын выронил нож, который смачно воткнулся в доски пола. Вслед за ним полетела и воспользовавшаяся минутной слабостью Эммика камбала. Мать и сын, ругаясь на чем свет стоит, бросились ее ловить. Снизу сцену, смеясь, наблюдал еще один сосед Гоцман - седой дядя Ешта.
– Тетя Песя, я таки принесу вам соль и йоду, - прокомментировал Фима и пошел обратно к Давиме.
По-видимому, самое страшное было уже позади. Арсенин вытирал несвежим полотенцем руки. На Фиму он для порядка шикнул, хотя тот всего-навсего аккуратно шарил по шкафчикам в поисках соли.
Машинально продолжая вытирать руки, врач вошел в комнату, где лежала Гоцман. Кроме кровати, огромного круглого стола и платяного шкафа, здесь из мебели больше ничего не было. Но на выгоревших обоях опытный глаз Арсенина - как-никак судмедэксперт, а в прошлом военврач - углядел нечто, что всякий назвал бы следами от детской кроватки и ножной швейной машинки.
Повыше на обоях темнели прямоугольники от когда-то висевших здесь фотографий и, видимо, портрета. «А сейчас ни одного снимка», - машинально отметил Арсенин, оглядываясь по сторонам. За его спиной хлопнула дверь — это Фима с солью вышел на галерею.
– Где ваша семья? - спросил Арсенин, отбрасывая полотенце и садясь в ногах кровати.