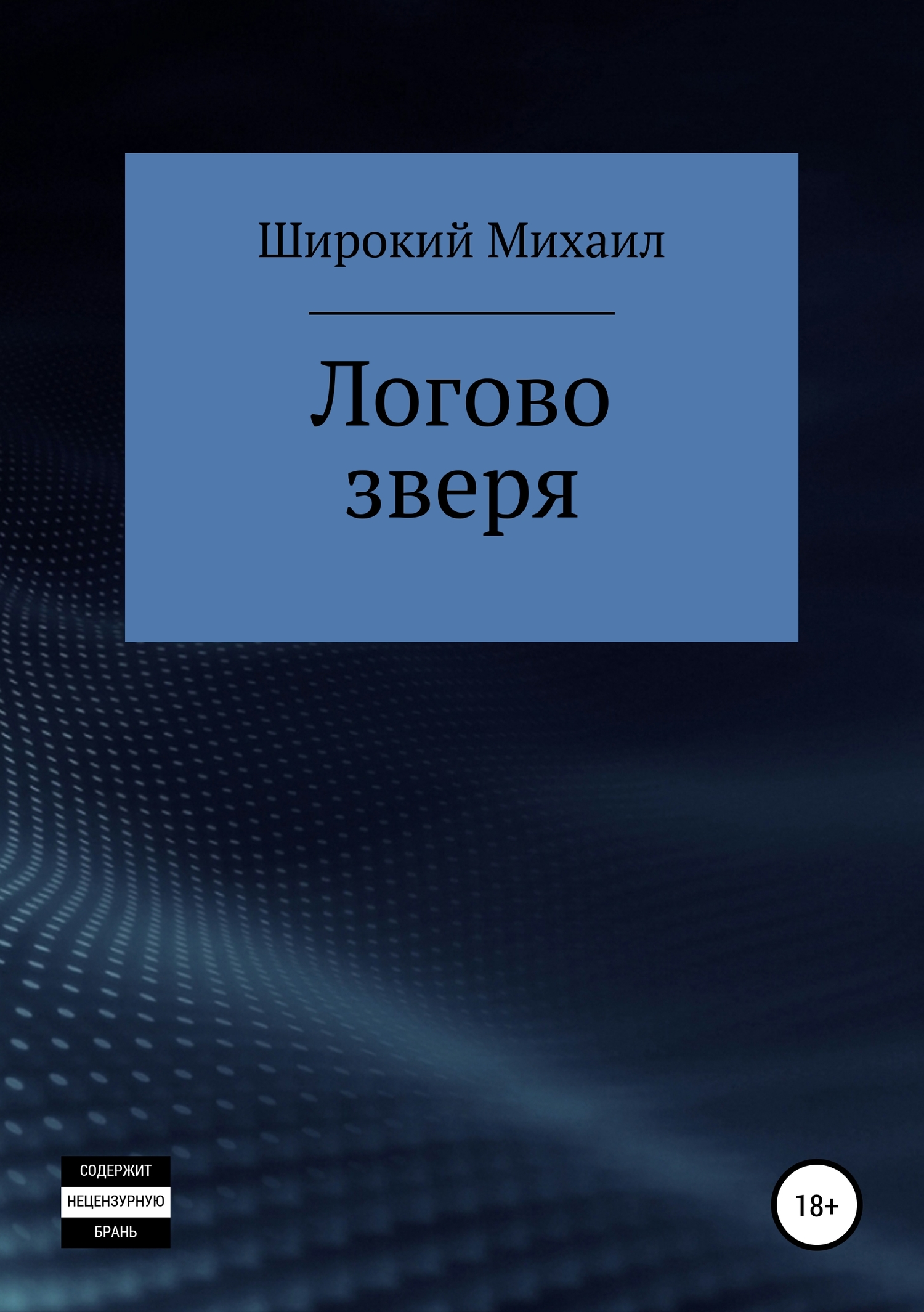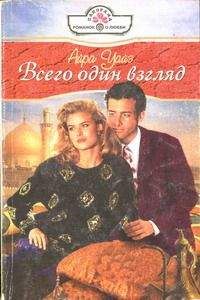озираться кругом, силясь понять, что прервало их покойный, блаженный сон.
Теряться в догадках пришлось не очень долго. Из палатки, бывшей эпицентром переполошивших всех звуков, показалась сначала взлохмаченная черноволосая голова с испуганной перекошенной физиономией и вытаращенными, остекленелыми глазами, смотревшими в никуда и, казалось, ничего не видевшими, а затем выползло наружу дрожащее полуодетое туловище, облачённое в какое-то непонятное, не то мужское, не то женское, тряпьё, оставлявшее открытыми значительные участки тела.
– О-о, какие люди! – приветствовал это странное явление Дима, хохоча и хлопая себя ладонями по коленям. – Вот и Белый к нам пожаловал. Какое счастье! Что, братан, опять кошмар приснился?
Тот, кого Дима назвал Белым, услыхав своё прозвище, обернулся на его голос, помотал кудлатой головой, словно вытряхивая из неё остатки терзавших его жутких сновидений, и промычал что-то невнятное. Затем тяжело вздохнул и, переменив позу, уселся у входа в палатку, продолжая болтать головой из стороны в сторону и кидать вокруг бездумные, одурелые взгляды.
– Чё ты развалился там, придурок? – гаркнул Дима, давясь от смеха и широко взмахивая рукой с зажатой в ней бутылкой. – Давай к нам! У нас тут есть ещё немного. Специально для тебя оставили. Как знали, что ты проснёшься.
Бродивший кругом затуманенный взор Белого, едва в поле его зрения попала бутылка, заметно прояснился и стал почти осмысленным. Откуда-то вдруг взялись силы, и он, помедлив лишь самую малость, хотя и не без труда, встал на ноги и нетвёрдой, шатающейся поступью, слегка помахивая для сохранения равновесия руками, двинулся к манившей его цели. Приблизившись к Диме, он выхватил у него бутылку и, запрокинув голову, в одно мгновение влил в себя остававшуюся там горючую жидкость. Постоял немного неподвижно, ощущая, как она растекается по внутренностям, коротко выдохнул, рыгнул и, отшвырнув опустевшую тару, проскрипел ватным, заплетающимся языком:
– Лада Ярославна… поцелуйте меня в зад!
Эта загадочная фраза вызвала у слушателей весьма бурную реакцию. Дима заржал, как боров, трясясь всем своим крупным, откормленным телом и гулко стуча пудовым кулаком по обрубку дерева, на котором он восседал. Валявшиеся вокруг костра пьяницы, не имея сил выражать свои чувства так же громко, тем не менее вовсю всхлипывали, мычали и блеяли от смеха. И даже мрачный, как туча, не имевший особых оснований для веселья Кирюха невольно, краем губ усмехнулся и одобрительно качнул головой.
И только сам виновник общего радостного оживления был хмур и словно чем-то озабочен. Даже тень улыбки не промелькнула по его мятому, будто изжёванному лицу, покрытому чёрной многодневной щетиной, выражение которого оставалось угрюмым и напряжённым. Он то и дело бросал вокруг косые, тревожные взгляды, морщился, топорщил губы, поводил плечами, точно обеспокоенный и озадаченный чем-то. Это было настолько заметно, что Дима, отсмеявшись и немного успокоившись, осведомился у него:
– Что с тобой, Белый? Что омрачило твой ясный лик?
Белый не спешил с ответом. Пожевал губами, почесал свою косматую спутанную гриву, ещё раз насторожённо огляделся, вздохнул и лишь после этого пробурчал себе под нос:
– Да так… привиделась хрень какая-то… Чуть не обосрался!
Дима опять заухмылялся и шумно втянул ноздрями воздух.
– Точно?
Белый скривился и махнул на него рукой.
– Пошёл ты… Я ж серьёзно говорю.
– Да ладно, верю. И что ж ты там узрел такое страшное, что взвыл как какой-то подземный дух?
Белый воззрился в темноту и опять поскрёб пятернёй затылок, точно силясь припомнить увиденное во сне. Затем медленно, с усилием подбирая слова и то и дело прерываясь, так как после многодневного запоя его умение говорить связно, как и умственные способности в целом, значительно ослабли, выдавил из себя:
– Ну, типа что-то громадное такое, чёрное, лохматое… выползло, значит, из лесу… вон оттуда, – он боднул головой в сторону чащи, плотной тёмной стеной подступавшей к самому лагерю, – и… в общем, порвало всех на куски! Всё в крови… И ко мне, значит, подбиралось уже… Ну я как заору!
Дима, с интересом слушая, сначала заулыбался, а потом опять стал похохатывать.
– Погоди-ка, братан. Ты говоришь, чёрное, лохматое… Это что-то на тебя сильно смахивает! Может, ты спьяну самого себя увидел в бреду – и аж завыл от ужаса?
Белый, отвлёкшись от своих воспоминаний, удивлённо, будто не понимая, уставился на ухмылявшегося приятеля и, сообразив наконец, что тот смеётся над ним, сердито плюнул.
– Да пошёл ты, жирная скотина! Больше ничего тебе рассказывать не буду… И вообще, идите вы все!.. – адресовался он уже ко всем присутствующим с более чем выразительным и энергичным пожеланием и, резко повернувшись, отправился, по-прежнему не очень твёрдым шагом, в свою палатку, провожаемый отрывистым, дробным Диминым хохотком и вялыми, полусонными смешками остальных.
Не разделял общего веселья только один человек – Паша. Полуневменяемый Белый рассказал о своём сне абы как, в двух словах, но и этого для Паши оказалось достаточно. То, что для других было лишь порождённым обильными возлияниями ночным кошмаром и лишним поводом для смеха, его поразило как громом и погрузило в глубокую, мрачную задумчивость. То, что упорно преследовало и мучило его все последние дни, начиная с памятной встречи в лесу, то, что он всеми силами старался забыть, используя для этого все возможные средства – в частности, регулярно напиваясь до беспамятства в компании своих новых непросыхающих друзей, – это, таинственное, непознанное, жуткое, после сбивчивого, косноязычного сообщения Белого вновь напомнило о себе, снова вошло в его мысли, опять вползло в его сердце, заставив его заныть и сжаться от страха. А то, что Белый, в отличие от него с Юрой и Кати, увидел это не наяву, а во сне, ещё более изумило Пашу и заставило его призадуматься о природе того, чему он не знал даже названия. Что же это такое, в конце концов? – раз за разом вопрошал он себя без всякой надежды отыскать ответы на свои вопросы. – С чем они столкнулись? Как это понять и объяснить? А главное, как избежать ещё одной встречи с этим, встречи – и тут уж у Паши не было никаких иллюзий, – которая может оказаться для них всех роковой?!
Молчать об этом, держать всё это в себе, делать вид, что всё в порядке, что ничего не происходит, становилось для него нестерпимым. Этот груз делался для него слишком тяжёл. Несколько раз, особенно после двух-трёх стаканов, у него возникало страстное желание рассказать обо всём, раскрыть свою тайну хоть кому-нибудь, тому же Диме или Кирюхе. Но всякий раз что-то в последний момент удерживало его.
Так случилось и в этот раз. Растревоженный и взволнованный сверх меры, он захотел