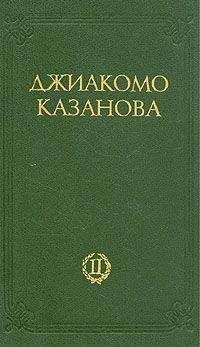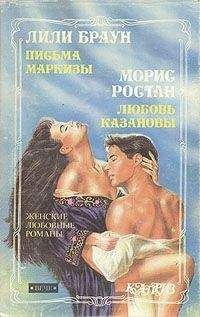— Как не выходит? Да ведь это же просто бесценок.
— И вы согласны отдать сто рублей за эту малютку?
— Несомненно. Но согласится ли она следовать за мною и исполнять всё, что я пожелаю?
— Ну, когда она окажется в вашей власти, вы сможете употребить и палку, если не помогут уговоры.
— И я могу заставить её жить у меня столько времени, сколько захочу?
— Без всякого сомнения, если, конечно, она не возвратит сто рублей.
— А сколько я должен ей платить?
— Ровным счётом ничего. Только еда и отпускайте её каждую субботу в баню, а по воскресеньям в церковь.
— Смогу ли я увезти её с собой из Санкт-Петербурга?
— Для этого надобно разрешение и денежный залог. Сия юная особа прежде всего раба императрицы, а потом уже ваша.
— Это всё, что мне нужно знать. Не сделаете ли вы мне любезность договориться с отцом?
— Хоть сию минуту.
— Лучше завтра. Я не хотел бы, чтобы об этом знало наше общество.
Мы все вместе возвратились в Санкт-Петербург. На следующий день я пошёл к Зиновьеву, который весьма обязательно согласился оказать мне сию услугу. По дороге он сказал:
— Ежели вы хотите завести гарем, достаточно одного лишь слова. Здесь нет недостатка в красивых девицах.
Я подал ему сто рублей, и мы вошли в дом того крестьянина. Когда Зиновьев сказал о моём предложении, он онемел от радости и изумления. Пав на колени, он сотворил молитву Св.Николаю, потом благословил свою дочь и что-то шепнул ей на ухо. Малютка посмотрела на меня с улыбкой и ответила: “Охотно”. Мы уже собрались уходить со своей добычей, когда Зиновьев сказал мне:
— Что же вы не проверите покупку. В контракте обусловлено, что вы покупаете девственницу. Удостоверьтесь, не обманули ли вас.
— Мне неловко делать это здесь. — И в самом деле, я не хотел подвергать Заиру (так звали девицу) столь оскорбительному досмотру.
— Ба! — отвечал Зиновьев. — Она будет только рада. Вы удостоверите перед родителями её благонравие.
Я сел на стул и, привлекши к себе несопротивляющуюся Заиру, убедился, что отец не солгал. Но, конечно, и в противном случае я ничего не сказал бы. Зиновьев положил сто рублей на стол. Отец взял их и подал дочери, а та сразу же вернула своей матушке. Купчая была подписана всеми присутствовавшими. Мой слуга и кучер поставили на ней кресты, после чего я усадил в карету моё новое приобретение, которое было одето в грубое сукно, без чулок и рубашки. По возвращении в Петербург я заперся с Заирой и четыре дня не покидал её. Сколько мог, я привёл девицу в благопристойное состояние и одел на французский манер, после чего отвёл в общественную баню. Там было пятьдесят или шестьдесят персон, как мужчин, так и женщин, совершенно раздетых и не смотревших друг на друга. По всей вероятности, они полагали, что и на них никто не смотрит. Свидетельствовало ли сие о бесстыдстве или первобытной невинности? Оставляю это на суд самого читателя. Мне же показалось странным, что никто из мужчин не взглянул на Заиру, являвшую собой во всей пленительной мягкости совершенный образ Психеи, виденный мною среди статуй виллы Боргезе. Грудь её имела не завершённые ещё очертания, ибо девица достигла не более, чем тринадцатилетнего возраста. Белизна и свежесть кожи, подобная снегам севера, оттенялась чёрными как смоль неаполитанскими волосами. Я и в самом деле влюбился в эту малютку, и если бы не её приступы ревности, о коих скажу далее, возможно, никогда с нею не расстался бы. Сначала мы объяснялись одними жестами, а это в конце концов утомительно, исключая разве наиболее страстные минуты. Я напрасно ломал себе голову над русской грамматикой, губы мои отказывались произнесть хоть одно слово сего бычьего языка. К счастью, менее чем за два месяца Заира настолько обучилась итальянскому, что уже могла объясняться со мною. Именно посте сего страсть её ко мне обратилась в подлинное исступление.
Около сего времени явился ко мне с визитом один молодой француз по имени Кревкёр. Он приехал из Франции в обществе молодой и пригожей парижанки мадемуазель Ларивьер. Кревкёр вручил мне письмо курляндского герцога Карла, который горячо рекомендовал его.
— Соблаговолите, государь мой, изъяснить, чем я могу служить зам.
— Представьте меня вашим друзьям.
— Я и сам, будучи здесь чужестранцем, почти не имею их. Приходите ко мне, а что касается связей, то правила хорошего тона не позволяют содействовать вам в этом. И в качестве кого я представлю мадам? Как вашу супругу? Кроме того, меня непременно спросят, какие дела привели вас в Петербург. Что отвечать на это?
— Что я дворянин, путешествующий для собственного удовольствия, а мадемуазель Ларивьер моя возлюбленная.
— Должен признаться, подобные рекомендации представляются мне недостаточными. Если вы желаете узнать страну, и ваша единственная цель — рассеяться, вам незачем выезжать в свет. Для этого у вас есть театры, променады и даже придворные праздники, были бы только деньги.
— Именно их у меня и недостаёт.
— Как же, не располагая средствами, вы не побоялись обосноваться в чужеземной столице?
— Мадемуазель Ларивьер убедила меня предпринять это путешествие и уверяла, что мы прекрасно можем прожить со дня на день. Мы отправились из Парижа без единого су и до сегодняшнего дня прекрасно устраивались.
— И, конечно, кошельком ведает сама мадемуазель?
— Наш кошелёк, — вмешалась в разговор эта дама, очаровательно улыбаясь, — находится в карманах наших друзей.
— Не сомневаюсь, мадемуазель, что вы найдёте их в любом уголке света. Поверьте, я с величайшей радостью согласился бы называться вашим другом, но, к сожалению, средства мои тоже ограничены.
Наша беседа была прервана появлением некого Бомбака, уроженца Гамбурга, бежавшего из Англии от долгов. Здесь, в Санкт-Петербурге, он занимал довольно высокий военный пост, имел большой дом, много играл и волочился за женщинами. Посему я счёл знакомство с ним истинной находкой для новоприбывших путешественников, кои держали кошельки в карманах своих друзей. Бомбак при виде дамы сразу же загорелся и был вполне благосклонно принят. Они получили приглашение назавтра к обеду, равно как и я вместе с Заирой, которую, впрочем, предпочёл бы оставить дома, если бы не ожидавшие меня в этом случае слёзы и стенания.
У Бомбака собралось весёлое общество. Сам он занимался лишь прекрасной авантюристкой, Кревкёр был пьян, а я почти не притрагивался к вину. Что касается Заиры, то она всё время сидела у меня на коленях. Утром принесли новое приглашение, однако я не взял с собой Заиру, так как знал, что будут русские офицеры и могут возникнуть поводы для ревности — ведь они имели возможность переговариваться с нею на своём родном языке! Когда я пришёл к Бомбаку, Кревкёр и Ларивьер уже сидели за столом вместе с двумя офицерами, братьями Луниными, которые сумели с тех пор достичь уже генеральских чинов. Тогда это были лишь молодые кадеты. Младший, тоненький и пригожий, словно девица, блондин, считался интимным другом г-на Теплова, секретаря кабинета. Поговаривали, будто он завоевал сию плодотворную дружбу посредством известной снисходительности. Я сел рядом с ним и получил столько знаков нежного внимания, что принял его за переодетую женщину. На высказанные мною подозрения он пожелал дать мне немедленные доказательства обратного. Невзирая на моё отвращение и видимое недовольство, Ларивьер, сей юный шалопай, показал свои подвергнутые сомнению достоинства. Позднее явились другие приглашённые, и был разложен фараон. В одиннадцать часов ещё шла игра, оставившая Бомбака без гроша. За сим последовала оргия, которую я не буду описывать, щадя чувства моих читателей. Ларивьер, ни в чём не отставая от мужчин, пила и выделывала всяческие безумства, и только мы с Кревкёром сохранили целомудрие, подобно двум добродетельным старцам, кои с философическим пренебрежением взирают на неистовства пылкой молодости.