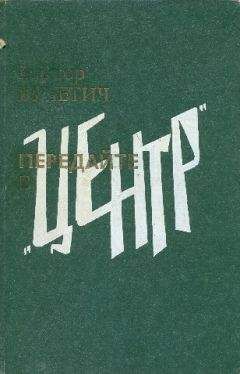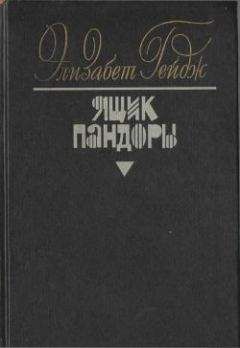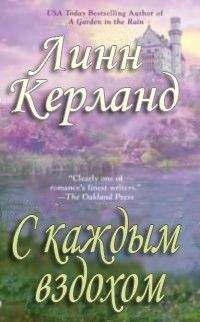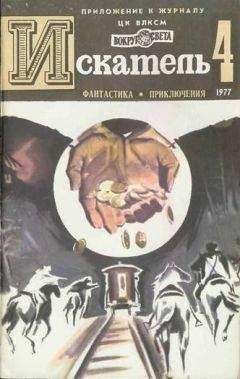— Сады у нас богатые. Бахчи. У батька моего кавуны зрели, не поверишь, в два обхвата. — Власенко растопырил руки: — Во! Всем куренем зараз не осилишь… А в пойме, как свечеряет, соловушка бьет. Ах ты, сладкая ж моя птаха, мать ее в три господа!.. Было, Григория, да прошло…
— Домой-то хочешь воротиться?
— Да кто ж того не хочет?.. До хаты я бы с милым сердцем, только вона где та моя хата… — Власенко отстранение махнул ладонью в сторону далекой канонады.
— Ну вот, а говоришь, ткни как слепого кутенка. Сам, поди, соображаешь, что напрямки домой не дойти. Перекрыли нам дорогу туда. Крепко перекрыли, Власенко. Только ведь то ж дурак прямой путь выбирает. Умный и стороной обойдет, коли случится такая необходимость. Ты вот газеты на курево переводишь, а их сперва читать надо.
Власенко с явным недоверием посмотрел на атамана.
— Гляди не гляди, но выходит из тех газет, Власенко, что одна у нас дорога, пока, конечно, и ту большевики не отрезали — за Волгу. Ты — человек служивый и должен знать, что с армией шутки не шутят.
— Дак то как сказать… Обходились покудова.
— То-то и оно, что покудова. Сил у них не было, вот и гулял Александр Степаныч. А нынче — ты прикинь — мир с Польшей, кончился Антон Иваныч Деникин. Днями, ты, может, не знаешь, два наши полка у Токмакова целиком перешли к большевикам. А в “прощеные дни”, месяц назад, так тысячами валили сдаваться. Соображаешь? А мы все хорохоримся. Обходились покудова… Больше не обойдется, Власенко. Ни Антонову, ни нам с тобой. Это те, на ком вовсе крови нет, еще могут рассчитывать на что-то А тебя я в деле видал, да и не я один. Многим мы тут по себе память оставили. Потому одна у нас дорожка… За Волгой, знаю, есть верные люди. Да и народ иной там, глядишь, ко двору придемся. Сибирь поможет, у них тоже большие дела заворачиваются.
— А ежели и туда армия придет?
— Придет, конечно, но не сразу. С год, думаю, продержимся. А после, как маленько уляжется… память, Власенко, память, тут ты к дому и заворотишь. Вот те и весь мой резон.
Задумался Власенко. Долго молчал, словно бы переваривая сказанное атаманом, ворочался с боку на бок, грыз сухой стебелек полыни, зло сплевывая горечь, потом сел и оглядел спящих вразброс казаков. Из брючного кармана вытащил кисет с табаком и аккуратно сложенным листом газеты, отпечатанной на тонкой папиросной бумаге. Развернутый, потертый па сгибах лист затрепыхался в руках Власенко, со смутным беспокойством и недоверием рассматривающего на просвет нечеткие серые слова.
Атаман, прикрыв глаза ладонью, наблюдал за подхорунжим.
Наконец Власенко буркнул себе под нос что-то неразборчивое, похожее на матерок, и, оторвав от газеты малую полоску, стал сворачивать самокрутку.
— Читал я днями вот в такой же газетке, — лениво заговорил атаман, — “Красное утро”, что ли, не помню… Двое наших орлов схорониться решили от большевиков. Землянки себе отрыли под болотными кочками. Так, чтоб, значит, только поместиться, всего и делов. Кочками накрылись, тростинки для дыхания приспособили. А тут, на грех, не красные, а стадо коров. Одна возьми да и ляпни блин на тростинку. Прошло время, вылез один наружу, глядь, а второй-то уж давно богу душу отдал. От коровьего дерьма задохся. Вот и сидел тот страдалец да слезы лил над трупом товарища, пока его не взяли большевики. Так и написано было: мол, гибнет антоновщина, придавленная коровьим навозом…
— Вишь ты, как оно вышло, — пробормотал Власенко, дожигая в кончиках пальцев окурок. — Что в лоб, значица, что по лбу — одна хреновина. Да… Ну, тады вот тебе и мой сказ, Григорич. Ты — атаман, ты и веди. И я с тобой, коли одной веревочкой повязаны… Хучь и свербит душу, однако нутром чую, правду ты баешь… — Он еще помолчал и сказал уже самому себе: — Дозоры пойти выставить, не ровен час… Вот жизня сучья…
Оставшись один, атаман перевернулся со спины на живот, уткнулся лицом в траву. Увидел: ползет маленький черный мураш по тонкой былинке. Вверх ползет, а куда! Былинка-то кончается, и ничего дальше, не прыгнешь, не улетишь. Ткнул ногтем — мураш свалился, но через миг снова настойчиво карабкался вверх, к пустоте. А может, к солнцу?.. Глупые, ненужные мысли.
Приподнявшись на локте, атаман огляделся, ища глазами муравейник, но ничего похожего поблизости не было. Эк тебя занесло, бедолага, — вздохнул он.
Сам того не подозревая, тянулся и атаман, подобно тому мурашу, полз, карабкался, а куда — самому господу неизвестно. Двадцать с небольшим лет за спиной, и впереди — та же пустота. Все, что было и что могло только быть, уже прошло, и память о том лучше не хранить. Нельзя хранить- так вернее. То — за чертой. Знал он, что ничего не найдет на родном пепелище, тогда зачем же так тянуло его в родные места?..
Вдруг закралось сомнение: убедил ли он Власенко? Должно, убедил. Правда, хоть и горькая, всегда убеждает. Смотря, конечно, как ее поднести, эту правду. После того инцидента с казаком, понял атаман, нужна была только правда, иного и не мог принять упрямый подхорунжий. Принять умом, не сердцем. Всякий истинный казак, убежден был атаман, напрочь лишен какой бы то ни было сентиментальности Его бог — необходимость, сиюминутная логика. А после — обойдется… Убедить Власенко — значило убедить, сломить и всех остальных.
Атаман снова перекатился на спину и закрыл глаза…
Грохот налетел неожиданно.
Еще не понимая в полусне, что произошло, атаман вскочил на ноги и увидел, как в пыльном облаке по дороге промчалась бричка, поливая поляну из пулемета, а за ней, стреляя на скаку, промелькнули несколько верховых. Атаман заметил, бросаясь к своему расседланному коню, как бежали из глубины поляны, паля в белый свет, расхристанные казаки, падали и снова вскакивали, матерясь и размахивая руками.
Мгновение — и бричка скрылась. Подбежал, прихрамывая, Власенко, он, как загнанная лошадь, широко разевал рот и сжимал правой ладонью расползающееся по левому рукаву багровое пятно.
— Опоздали, мать… — хрипло выдавил он, и лицо его перекорежило.
Казаки исступленно затягивали подпруги, сбиваясь толпой посреди поляны, вваливались в седла, передергивали затворы винтовок и обрезов.
— Спокойно, Власенко! — прикрикнул атаман, чувствуя, как минутная растерянность уходит от него. — Ранен?
Власенко заскрежетал зубами.
— Эй! — властно приказал атаман, перекрывая общий испуг. — Санитара сюда!
Подбежал казак и, закатав рукав гимнастерки у Власенко, стал перетягивать рану бинтом.
— Навылет. Кость не задело, — наблюдая за перевязкой, сказал атаман. — Ну, Власенко, докладывай!
— Повел я дозор, Григорич… — морщась от боли, стал объяснять подхорунжий. — Только к дороге, а тут они. Из станкача… Троих хлопцев наповал, а меня… вот…