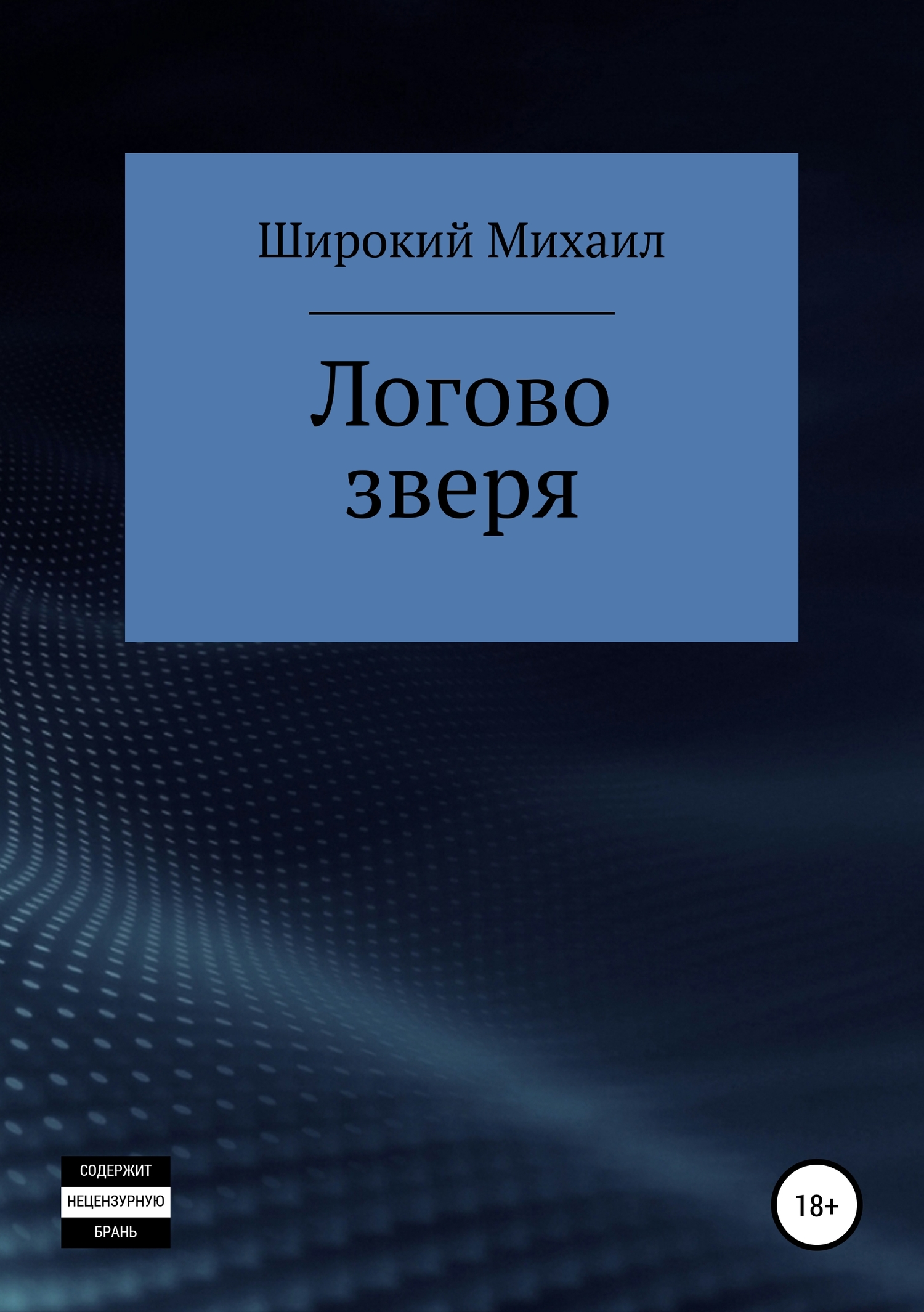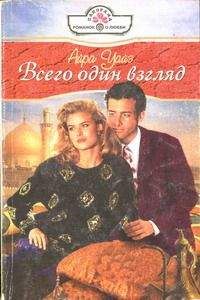Могло даже показаться, что жизнь уже покинула её, если бы не едва уловимое тёплое дыхание, вырывавшееся из полуоткрытых губ.
Юра встряхнул её сильнее и, с трудом проглотив вставший в горле комок, познал немного громче:
– Марина, очнись. Это я.
Её длинные загнутые ресницы едва заметно шелохнулись. Сквозь дрогнувшие и чуть приоткрывшиеся веки мелькнула лазурь глаз.
– Ты слышишь меня, да? – вопрошал он взволнованно и нежно, сквозь заволакивавший его глаза туман продолжая всматриваться в её измождённое, бесцветное – и такое родное для него – лицо. – Ответь мне, если можешь. Скажи хоть слово, пожалуйста!
Её запавшие, обведённые синевой глаза приоткрылись чуть пошире и взглянули на него устало, растерянно и с лёгким недоумением. А пепельные бескровные губы шевельнулись, и на них показалась едва различимая, слабая, как вздох, улыбка.
Юра тоже улыбнулся сквозь слёзы, которые уже не в силах был сдержать, и, ничего больше не говоря, понимая ненужность слов, порывисто обнял её и прижал к груди.
Минуты на две они замерли в объятиях друг друга, словно забывшись и полностью отдавшись своим ощущениям. Именно в силу всего случившегося с ними особенно остро и пронзительно, каждой клеточкой тела, воспринимая и переживая свои чувства и точно зная, что другая половина того единого целого, в которое они слились, чувствует то же самое. Их сердца бились в унисон, его сердце радостно и горячо отзывалось на стук её сердца. Он с наслаждением вдыхал её чистое, лёгкое дыхание, ощущал теплоту и упругость её кожи, мягкость и тонкий аромат её золотых, струившихся у него между пальцами волос. И уже не воспринимал это как чужое, как что-то отдельное и независимое от него. Это как-то незаметно, помимо его сознания и воли вошло в него, стало частью его, и ему было удивительно и непостижимо, как он раньше, ещё несколько дней назад, мог жить без этого ощущения сопричастности, неразрывной связи, слитности с другим существом, которое за такое короткое время стало совершенно необходимо и незаменимо для него.
– Я знала, что ты услышишь меня, – прошептала она, когда он наконец оторвался от её сухих, солоноватых от крови губ. – Я до конца верила, что ты придёшь и спасёшь меня… Иначе и быть не могло…
– Конечно, конечно, – твердил он ей в ответ, стараясь не вспоминать в этот момент о тех мгновениях слабости, растерянности и малодушия, что закрались в его сердце не так давно, в тот миг, когда ею безраздельно овладел страх. – Иначе не могло быть.
Она вдруг немного отстранилась от него, стиснула его голову ладонями и, глядя на него своими большими, лихорадочно блестевшими глазами, спросила хрипловатым, чуть подрагивающим голосом:
– Ты убил его?
– Д-да, – после короткой паузы и не совсем твёрдо, будто с сомнением, ответил он. И, лишь заметив в её глазах тревожный оттенок недоверия, повысил голос и с чётко, с расстановкой произнёс: – Да. Я убил его!
Её взгляд смягчился и блеснул, как ему показалось, гордостью. Гордостью за него. Она в изнеможении склонила голову на его плечо, обвила его шею руками и со вздохом повторила:
– Да… иначе и быть не могло…
Но тут же, словно только что вспомнив о чём-то, вскинулась и с тревогой и жалостью всмотрелась в его лицо.
– Ты весь в крови!
– В основном это не моя, – поспешил успокоить её Юра. И, после того как она снова устало уронила голову ему на плечо, присовокупил почти про себя, с натянутой усмешкой: – Хотя и моей хватает…
– Как ты оказалась здесь? – спросил он чуть погодя.
Марина ответила не сразу. Видимо, она сама не слишком чётко помнила, как очутилась в подвале.
– Я куда-то бежала… открывала какие-то двери… А последнюю открыть не смогла… И тут вдруг – он… – её сдавленный голос дрогнул и прервался, она сжалась в его объятиях и ещё крепче приникла к нему.
После этого они не произнесли ни слова. Просто сидели обнявшись, обменивались выразительными, говорившими больше любых слов взглядами, подолгу смотрели друг другу в глаза, в которых будто отражалось всё, что им пришлось пережить за эти три дня, насыщенных страшными, катастрофическими событиями больше, чем вся их предшествующая жизнь. О которых они долго – а вернее, никогда – не забудут, которые будут преследовать их до конца жизни, омрачая даже самые счастливые и отрадные её моменты напоминанием о чём-то необъяснимом, таинственном и невыразимо жутком, что нежданно-негаданно, словно из ниоткуда, ворвалось в их обыденное, ничем не примечательное существование, в одно мгновение сломав и разрушив в нём всё до основания и заставив их заглянуть в такую бездонную и чёрную бездну, в которую никому из живущих не стоило бы заглядывать.
Юра, первым выйдя из того расслабленного, томительного, немного пришибленного состояния, обычно наступающего после сильного потрясения, в котором они пребывали некоторое время, не без усилия отстранился от своей подруги и кивнул ей.
– Пора, Марина. Надо убираться из этого треклятого места. Мы и так слишком задержались тут.
Девушка согласно качнула головой, но не сделала ни малейшей попытки подняться. После кратковременного оживления она снова впала если не забытьё, то в состояние некоторой отрешённости и безразличия. Юре пришлось силой поднять с пола её разморенное, безвольное тело и, крепко придерживая за талию, повести к выходу, нашёптывая ей при этом что-то ласковое и ободряющее, что вызывало у неё порой слабую, кроткую улыбку.
Однако он вынужден был выпустить её из объятий, когда они достигли двери, наглухо захлопнутой могучей рукой покойного зверя. Прислонив Марину к стене, он отступил на пару шагов, а затем навалился на дверь всем телом, уже зная по опыту, каких усилий стоит отворить её.
Но неожиданно остановился, будто поражённый внезапной мыслью. На память ему вдруг пришёл указующий жест старого монстра, который тот сделал на прощание. Он явственно указал на часть стены, расположенную за дверью. Не зря же он сделал это, подумал Юра. Значит, там что-то есть. Возможно, объясняющее что-то, отвечающее на вопросы, на которые он упорно и безуспешно искал ответы.
Профессиональное сталкерское любопытство превозмогло в нём нетерпение поскорее вырваться из душного, мрачного подвала. Оставив пока дверь в покое, он медленно двинулся вдоль стены, пристально вглядываясь в её обшарпанную грязно-серую поверхность с редкими следами давным-давно потрескавшейся и облупившейся зелёной краски.
Однако этот тщательный обзор оказался безрезультатным. На стене не было ничего заслуживающего внимания. Стена как стена. Старая, ободранная, с водянистыми рыжеватыми пятнами, испещрённая глубокими чёрными отверстиями, словно от вбитых здесь когда-то гвоздей, и исполосованная беспорядочными зигзагообразными линиями, как если бы кто-то водил по