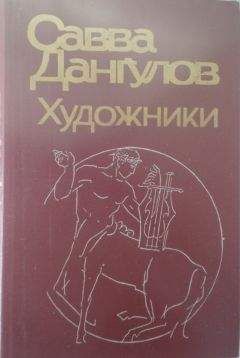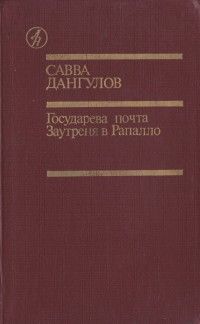— Но ведь в ваших рисунках к «Тихому Дону», Орест Георгиевич, есть своя динамика повествования. Я вижу ее в том, как характер, который вы нашли, вы ведете через всю книгу, повторив в нескольких рисунках. Представляю, как трудно воссоздавать его в книге, обнимающей годы и годы: надо как бы проследовать за образом, отметив все его изменения. Нет, не только внешние черты, но и психологию... Так?
— Все зависит от того, в какой мере я постиг характер героя, насколько полно понял его душу. У Мелехова многотрудная жизнь, ее повороты круты. Облик Григория воспринял эту жизнь. Григорий впервые возникает у меня во встрече с Аксиньей на берегу Дона, — припомните, как он юношески ладен, с какой легкостью сидит на коне, как задирист и весел... И вот последний рисунок, когда, преодолев все ненастья жестоких и страдных лет, он возвращается к родному пепелищу и видит сына. Да Григорий ли это? Григорий. Однако, чтобы поверить, что это действительно он, наверно, Григорий должен не однажды возникнуть на своей тернистой стезе. И тогда, когда порешил австрийца, а потом подошел и глянул ему в лицо. Помните, как сказано у Шолохова об этом лице? «Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный — страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, — покривленный суровый рот». И тот раз, когда поднял казачьи сотни на красных, а потом вдруг взглянул на разномастное свое войско, сник, объятый нелегкой думой: «Кто же прав?..» И тогда, когда схватился в жестоком единоборстве с Кошевым: «Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет... «Вот многотерпиимый путь, который человек нарек библейским «хождение по мукам»... Тут писатель ставит перед художником нелегкие задачи. Читатель, что видит этот мой рисунок, когда Григорий стоит перед сыном, согбенный, должен понять, как крута была дорога...
— Для меня в этом рисунке финал «Тихого Дона», Орест Георгиевич. Заключительные слова романа... Их помнят все: «Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило ею с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром...» Вечные слова.
— Да, верно, здесь и исход романа, и трагедия Мелехова. Здесь — все.
— Орест Георгиевич, я возвращаюсь к началу. Вот вы взяли «Разгром», «Теркина», «Тихий Дон». Это вещи разные, но в них есть нечто единое. Я же понимаю, что вы обратились к этим произведениям потому, что они вас увлекли, — тут решила ваша добрая воля. Вот вопрос: что вас привлекло в этих произведениях?
— Это близко к жизни, это идейно, это глубоко, если иметь в виду образ человека, а это всегда благодарно, это художественно...
Уже затемно возвратившись от Ореста Георгиевича домой, беру однотомник «Тихого Дона», листаю и ловлю себя на мысли, что подолгу останавливаюсь на каждом рисунке, останавливаюсь так, будто смотрю не на рисунок, а на нечто большее. Кажется, Георг Лихтенберг, ученый немецкий муж и писатель-просветитель, сказал, что хорошая книга нравится тем больше, чем человек становится старше. Рискну высказать предположение, что это качество шолоховского романа может унаследовать графика Верейского к «Тихому Дону». Как мне кажется, она живет и будет жить, сохраняя свои достоинства вопреки натиску лет, становясь, по слову ученого немца, тем интереснее, чем человек становится старше, — в графике Верейского есть содержание. И еще: давно замечено, что сделанное Шолоховым в какой-то мере предпосылка успеха, независимо от того, какое из искусств обратилось к роману. В какой-то мере. Главное же в ином. В таланте художника и, пожалуй, в том всемогущем, что есть интеллект художника и что позволило исконному горожанину так проникнуть в жизнь Дона, будто он вырос на Дону.
2. «...ПИСАТЬ ТАК ВЕРНО, КАК ТОЛЬКО СМОГУ...»
Древние говорили, что только человек, обладающий фантазией, способен внушить представление о правде. Фантазия и правда — казалось, понятия полярные, больше того — взаимно исключающие. Однако это только так кажется. Художник может обладать всеми качествами, но если он лишен фантазии, он лишен того самого качества, которое дает возможность ему воссоздать всю сложность жизни, именуемую правдой жизни.
Орест Георгиевич Верейский иллюстрировал Хемингуэя. Ну, разумеется, он прочел писателя так, как должен был бы прочесть его только художник-иллюстратор. Это особое чтение, суть которого многообразна. В основе такого чтения та мера пристальности, когда внимание сосредоточено на зримости картины, на эпизодах, в которых есть лаконизм и четкость мизансцены, на деталях, характеризующих портрет героя, на подробностях, свойственных панораме города, интерьера дома, пейзажа. Это действительно особое чтение. Но художник не ограничился чтением, каким бы доскональным оно ни было. Он добыл иконографию и погрузился в нее: фотографии, рисунки современников, старые книги и журналы, быть может, даже кинохроника, просмотр которой способен дать материал в движении, что для художника бесценно, ибо движение должен обрести и рисунок, вопреки, казалось бы, его внешней статичности... А вслед за этим черед способности художника фантазировать, а если быть точным, дать работу воображению. В сложном процессе, которым сопровождается работа иллюстратора, это самый ответственный и, быть может, грозный момент: ошибка тут едва ли поправима. В самом деле, именно на этом этапе работы художника образ героя, сложившийся в сознании и все еще призрачный, обретает плоть лица действительного. И не обязательно, чтобы Хемингуэй, взглянув па то, как Верейским изобразил старика, победившего большую рыбу, сказал: «Он — мой, этот старик!» Самолюбию художника может вполне польстить просто мнение читателя, прочитавшего повесть: «Поверьте, я тоже представлял его себе таким!..» Впрочем, тут возможны и исключения: «А знаете, в вашем старике есть нечто такое, что открыло и мне глаза...»
Формула о фантазии и правде кажется отнюдь не праздной, когда смотришь иллюстрации Верейского к Хемингуэю. Воображение всесильное тут сыграло свою роль. Ну хотя бы тот же старик, побратим моря, одновременно жестокого и доброго. Всем своим видом он убеждает: именно таким должен быть хемингуэевский старик... Вот это сочетание силы, которая всегда была в человеке устрашающе-бедовой, и того стариковского, необоримо кроткого, что уже явила безжалостная природа, очень убедительно. В самом деле, сила в могучих плечах старика, могуче-покатых, по всему мускулисто-твердых, в руках, железно зажавших весла, даже в босой ступне, упершейся в дно лодки. Стариковское — в сомкнутом рте, в худой груди, в жестокой седине бороды, в прищуре глаз. Вот это сочетание силы и слабости в облике старика очень человечно и точно. И еще: в самом облике старика, в его лице, в том, как все его существо соотнесено со знойным и неоглядным морем, есть настроение. Какое? Очевидно, неудовлетворенности, тоски, ожидания, которое всегда напряжено и выдаст в человеке жажду удачи.
Последнее для Верейского характерно: как пи лаконичны средства, к которым обращается художник, чтобы воссоздать образ героя, герой несет какое-то свое состояние, свое настроение, точно сопряженное с действием, психологически оправданное. Ну вот хотя бы шесть персонажей в иллюстрации к «Недолгому счастью Френсиса Макомбера». Вглядитесь в эти лица. Знойный полдень высветлил и затенил их. Скорее даже в поле света часть лица, а у человека, сидящего ядом с шофером, солнце сделало зримыми только ус и кончик носа. Казалось, художник обратился к светотени, чтобы жестоко ограничить себя. Однако, ограничивая себя, художник оставил себе ровно столько, сколько требуется, чтобы передать состояние героев. Каждый по-своему переживает эту минуту. Один доверился судьбе и безмятежен, другой отдал себя во власть смятению и но скрывает тревоги, третий поручил себя тому всесильному, что зовется чувством долга, четвертый выжидательно затих — в его глазах больше любопытства, чем страха, литый обратил свое внимание на нечто такое, что к происходящему но имеет отношения, — у него и без этого забот хватает, шестому, кажется, что-то уже померещилось, и он пригнулся, ожидая удара... Психологическое состояние героев для художника значительно и, возможно, насущно. Мы бы не ощутили драматичности момента, если бы художник не передал нам этого состояния своих героев. Кстати, состояние это — в лицах, в то время как позы тех, кого мы видим на рисунке, статичны, я бы сказал — однообразно-статичны. Но дело даже не в драматичности момента, а в психологической характеристике самих героев. Лишите их этого состояния — и они будут на одно лицо, хотя кто-то из них молод, а другой стар, кто-то темноволос, а другой светловолос. Следовательно, психология остается родной сестрой художника независимо от того, к какому виду изобразительного искусства он обратился и какой материал при этом использовал — многометровый холст или скромный лист ватмана.