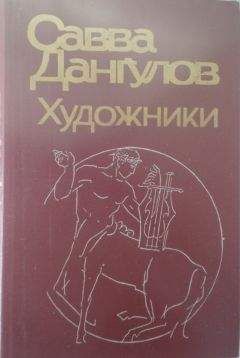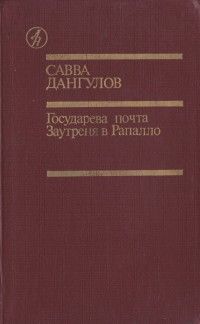Уэллс не считал себя деятельным фабианцем, но на его письменном столе, как вспоминал Иван Михайлович, нередко можно было рассмотреть книгу Сиднея и Беатрис Вебб «Советский коммунизм — новая цивилизация?». Книгу, как известно, пронизывала фабианская идея преодоления «ухабов» буржуазного общества средствами, исключающими насилие. Иначе говоря, по Веббам, в природе существовали пути, позволяющие создать некое государственное образование, вобравшее в себя черты старого и нового мира. В той или иной форме эта идея продолжала занимать Уэллса и после того, как его внимание к созданию всемирной республики, руководимой интеллектуалами, было не столь активным, как прежде.
Письмо, полученное Майским в июне сорок третьего года, отразило эти настроения писателя. Вместе с письмом Уэллс направил Ивану Михайловичу «Декларацию о правах человека». Как отмечал Уэллс, он посылал декларацию в надежде, что она будет рассмотрена и возвращена с критическими замечаниями: документ, о котором писал Уэллс, отразил взгляды писателя и его единомышленников, как они полагают, на коренные вопросы, волнующие человечество.
«Если вы найдете удобным, — отмечал Уэллс в письме, — буду очень благодарен за передачу этой декларации какой-либо организации пропагандистского характера, если такая возникнет, с целью привести русские дела в гармонию с либеральной и творческой мыслью Запада... Фактически названная декларация почти полностью совпадает с русской конституцией, как она воспроизведена в известной книге Веббов».
Мысль, которой сопроводил Уэллс эту свою реплику, своеобычна, однако проследим за нею, — как нам кажется, есть резон в нее вникнуть.
«Я надеюсь на всемирную революцию (это в сущности является лишь восстановлением материалистического понимания истории), что, на мой взгляд, не требует каких-либо глубоких изменений во внешней, видимой структуре человеческой деятельности, — замечает Уэллс. — Девятьсот девяносто девять человек из тысячи только выиграют от революции, построенной на принципе равенства...»
Но Уэллс не был бы Уэллсом, если бы, коснувшись столь глобальных проблем, не возвратил бы наше внимание к своей любимой идее всемирного государства.
«Мировая революция вовсе не означает разрушения каких-либо материальных ценностей, — отмечает писатель. — Она означает только переход общего управления делами в руки лучше организованного мирового директората, действующего на основе современных научных принципов. Старый мир, мир, который умирает, пытается наложить лапу своих отживших притязаний на получение прибылей и ставить препятствия прогрессу. Он может причинить еще большие страдания в процессе рождения нового порядка вещей, он может еще искалечить и опустошить жизнь целых поколений — против этого мы должны бороться все вместе...»
Прозорливость, которую при этом обнаруживает Уэллс в оценке старого мира, выдает в нем человека наблюдательного, однако запасемся терпением и дослушаем писателя — его мысль развивается не стандартно.
«Важным аспектом мировой проблемы является примирение индивидуальной инициативы, крайне необходимой для продолжения прогресса человечества, со все большим возрастанием коллективистского принципа в организации мировых дел...»
Уэллс, разумеется, приложил к своему письму текст декларации. Декларация провозглашала право на жизнь, заботу о детях, свободу труда, право на заработок, право на свободу мысли, свободу от насилия... — то есть все то, что щедро декларирует в своих конституциях Запад, но, к сожалению, не столь щедро претворяет в жизнь; но Ивана Михайловича, как я понял, интересовала в данном случае не столько декларация, сколько письмо Уэллса, которым он эту декларацию сопроводил. А письмо это, как казалось Ивану Михайловичу, свидетельствовало, что в лице Уэллса мы имеем человека, в сознании которого две поездки в Советскую Россию оставили глубокий след, как, естественно, и встреча с Лениным, — он не переставал возвращаться к ней всю жизнь.
— Чтобы понять до конца, сколь глубоким было для Уэллса это впечатление, надо прочесть не только «Россию во мгле», но и иное, что имеет отношение к поездке писателя в Россию, — сказал мне в заключение Иван Михайлович. — Например, этюд Уэллса о Ленине, помеченный 1934 годом, а возможно, и письмо Горькому, датированное 1920 годом, и уж конечно ответ Уэллса Черчиллю, ответ, о котором Уэллс позднее скажет, имея в виду лицо, которому это адресовано: «Я убил его...»
Был смысл последовать совету Ивана Михайловича и, обратившись к комплектам старых газет, восстановить в памяти каждую из тех реликвий, о которых говорил посол, — без этого картина, которую мы хотели представить, явно была бы неполной.
Итак, этюд о Ленине. 1934 год.
«Когда я беседовал с Лениным, предмет нашего разговора интересовал меня куда больше, чем оба мы вместе взятые. Меня совершенно не занимало тогда, высокого мы роста или маленького, старые или молодые. Мне запомнилась лишь его эмоциональность и удивительная четкость мысли. Но сейчас, когда я просматриваю свою старую, четырнадцатилетней давности книгу, снова вижу его перед собой и сравниваю его с другими известными мне государственными деятелями, я начинаю понимать, какой выдающейся исторической фигурой он был...»
Письмо Уэллса Горькому. 1920 год.
«Я кончил свою книжку о России. Я сделал все возможное, чтобы заставить общество понять, что Советское правительство — это правительство человеческое, а не какое-то исчадие ада, и мне кажется, что я много сделал, чтобы подготовить почву для культурных отношений между двумя половинами Европы».
И наконец, ответ Черчиллю, который попытался предать Уэллса и его книгу о России анафеме.
«Ему (Черчиллю — С. Д.) кажется дерзостью, когда простой человек вроде меня берется судить о государственных делах, да еще осмеливается утверждать, что его, Черчилля, озверелая антирусская политика не сулит нам и нашим детям ничего, кроме гибели и краха надежд. К тому же, каково это слышать от человека, который знает о происходящем в России не больше самого Черчилля!..»
Но вот что интересно: как ни растревожила Уэллса полемика с его оппонентами, он не забыл в ходе этой полемики проблемы, которая все эти годы жила в его сознании.
«Возможно, что мои надежды и надежды всех, кто думает, как я, не оправдаются; возможно, Европу уже не спасешь, починив и подлатав ее, и надвигаются перемены, более решительные и важные, чем бы нам хотелось. Может, основу нашего общества слишком подточила корысть. Может быть, коммунисты... сумеют научить мир чему-то полезному — ну хотя бы дисциплине и бескорыстному служению идее. Может быть, вся Европа, подобно России, в конце концов нуждается в том, чтобы ее привили к молодому коммунистическому корню, и тогда она вступит в новую творческую фазу...» Ну что тут можно сказать? Конечно, раздумьями Уэллса руководит разочарование в Европе, но значит ли это, что он хочет принять принципы нового мира? Нет, конечно. Однако какие же принципы он хочет принять — что его устраивает? Призову читателя внимательно прочесть высказывание Уэллса, которое я воспроизвожу ниже: «И все же Октябрьская революция не является конечной мировой революцией, творческим возрождением человечества, — утверждает Уэллс. — Это возрождение еще впереди. Оно произойдет на базе атлантической цивилизации и потребует не руководства и контроля со стороны России, а понимания и сочувствия». В этой формуле есть для Уэллса свое понимание положения дел в мире: итак, идеал писателя — некая западная революция (он называет ее революцией на базе атлантической цивилизации), которая в такой мере будет отлична от Октябрьской революции, что потребует всего лишь сочувствия от страны Октября, — впрочем, Уэллс находит резоны, чтобы утешить и нас: «Перед Россией свои обширные проблемы, и, только разрешив их, она сумеет сыграть свою роль в окончательном объединении мира».
Именно в этом высказывании Уэллс говорит о своем политическом идеале. В чем же суть этого идеала? Как понимает читатель — в мировой буржуазной революции. Наше отношение к концепции Уэллса проистекает из этой формулы писателя.
Не думаю, что все воспроизведенное только что может деформировать наше отношение к Уэллсу: несмотря на своеобычие его позиции во всем, что касается будущего мира, главное в нашем отношении к нему остается нерушимым: мы имеем дело с великим гуманистом, который, не разделяя наших принципов, тем не менее настолько мудр и широк, чтобы видеть в них великие демократические устремления я считать себя другом СССР.
Кажется, Александра Михайловна Коллонтай сказала: «Дипломат, не давший своей стране друзей, не может считаться дипломатом». Многое из того, что делал Иван Михайлович Майский, действительно претворяло в жизнь эту формулу. Это относится, в частности, к контактам Майского с Шоу и Уэллсом, что имело немалое значение для нашей страны. Позиция, которую занимали эти писатели по отношению к СССР, оказала свое влияние на европейскую художественную интеллигенцию в период между двумя войнами. Для Шоу и Уэллса это было проявлением антифашизма и конечно же сказалось на развитии европейской общественной мысли, питавшей многие прогрессивные начинания нашего века, в том числе и столь значительное, как защита мира. У того, что сделал Майский, мне видится и эта грань.