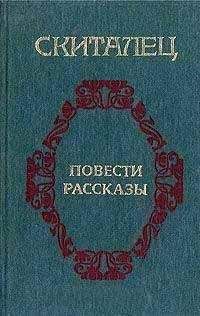— Истинно говорю вам: не войдете вы в царствие небесное и не будете там вместе с херувимами восклицать: «Осанна»! Ибо сказано: трудно пьяному сквозь игольное ухо пролезть! Что вы тратите свои молодые силы у дверей кабаков, грязных, прокопченных табачным дымом и людским неряшеством? Оглянитесь, бледнолицые братья мои! Посмотрите на меня: водка не искушает меня, ибо ужасные примеры перед моими глазами! Гнусен грязный вид рваного огарка, глаза его, как у слепого, и мрачна душа его, как у слепого, и хочется плакать над ним и говорить: «Брат! вот дал бог тебе от рождения душу чистую — и что сделал ты с нею? Какой ответ дашь ты ему?» — «Пропил, господи!» — трясясь и стоная, ответишь ты… Братцы, поднесите рюмочку, с большого я похмелья и, кажется, избит был кем-то! — неожиданно заключил Савоська…
Быстро переменив тон, художник уже сидел за столом среди огарков и тянулся к рюмке.
Огарки смеялись.
— Откуда ты это, Савося, с такими сентенциями? — иронически спросил его Михельсон.
Савоська важно развалился на стуле, засунул руки в карманы брюк и, пережевывая «плюм-пудинг», квакал:
— С этюдов… шатался по Жигулевским горам… а сюда привез полотно на выставку… целый месяц мазал… Шаркнул я, братцы, такую картинищу — ого! Угадайте сюжет!
— А чего тут угадывать? — вмешался Толстый. — Ведь ты давно собирался писать картину на тему: «Хам, насмехающийся над своим пьяным отцом Ноем».
— Хо-хо-хо!
— А вот и нет! — возразил Савоська. — Такой неприличной сцены я писать не собирался! Я написал картину «Волки».
— Это что же за картина?
— Это? — Савоська воодушевился. — Это — зимняя ночь в степи. Темное-темное беззвездное небо… темная даль… только зимняя холодная луна одним краешком освещает снежную равнину… снег такой чистый, влажный, холодный… и мгла ночная тоже написана холодными тонами. Холодно… грустно… одиноко… А на дороге стоит волк. Такой матерый, старый волчище… Худой, голодный. Он весь сжался в комок, согнулся и стоит, поджавши хвост, но щелкая зубами… Понимаете? Поджавши хвост, но щелкая зубами!..
Савоська увлекся и, жестикулируя, изображал из себя волка. Огарки, улыбаясь, слушали и ели.
— «Хорошо теперь с овцами! — думает волк. — Живут они в теплой закуте, спят в теплом навозе, плодятся и едят теплый, готовый корм… Э! не беда, что их стригут, — шерсть опять отрастет, — что их караулят собаки, эти подлые твари, продавшиеся человеку за кусок хлеба, ведь овцы не нуждаются в свободе! Проклятые! Они не знают волчьей свободы, волчьих страданий!.. Они сыты! всегда сыты! О! так бы их всех и перерезал, впился бы острыми, как пила, зубами в глупое овечье горло, пил бы кровь и приговаривал: а! вы сыты! вы счастливы в вашем подлом навозе! подлые, глупые, рабские твари!» Так думал волк, поджавши хвост и щелкая зубами.
— Здорово! — одобряли огарки.
— Но вот он повел носом… чем-то пахнет… он видит: на снегу чернеет что-то… так… это падаль, почти занесенная снегом… Э!.. поедим хоть падали! А на горизонте мелькают парами огненные точки — волчьи глаза… слышен голодный вой… волк озирается… длинная мокрая шерсть встает на его хребте… Вот вдали мелькнул волчий силует… Э! придется поделиться…
Савоська щелкнул зубами.
— Вот моя картина! — торжественно воскликнул он.
— Рассказано хорошо, а вот как все это на картине — неизвестно… — поддразнил Михельсон.
— Э! — гордо квакнул Савоська. — Не знаете, что ли, вы мою кисть? Написано моим широким мазком… Да… Это, впрочем, не важно, как написано, — главное замысел, идея! Это — просто небольшой этюд, а у меня ведь пристрастие к большому полотну! Ты мне дай полотно в несколько сажен, тогда я шаркну картинищу! А может быть, что я совсем и не художник, а будущий великий диктатор? А может быть — поэт? Черт меня знает! Я не могу вполне отдаться живописи, она не увлекает меня! Мне вот хочется стихи писать; разные сказки и рассказы лезут в башку!
— Знаем! — со смехом прервали Савоську. — Из лягушиной жизни! Слышали!
— Или из быта африканских львов!
— Нет, в прошлый раз он хорошо рассказал «комариное заседание на болоте».
— Хо-хо-хо!
— Э! — самодовольно квакнул Савоська. — Я не люблю людей, я люблю животных, насекомых, пресмыкающихся, птиц и зверей… Шатаясь по лесам и болотам, я подружился с ними, я знаю их душу, их мысли, жизнь и борьбу, любовь и маленькие звериные драмы… Я много могу о них рассказать!
— А ну, расскажи что-нибудь… — лениво отозвались огарки, — из быта африканских львов…
После ужина они испытывали чувство неопределенной знакомой тоски: денег не было, идти было некуда, делать нечего, все чувствовали, как давит их проклятый «вертеп Венеры погребальной».
Огарки разбрелись по углам подземелья: кто прилег, кто сел на убогую постель, кто угрюмо слонялся из угла в угол.
Толстый сидел у стола и задумчиво сосал длинный чубук.
Пигмей поместился на полу, у ног его, облокотился на колено гиганта и, глядя ему в глаза, начал рассказывать.
Жестяная лампа слабо мерцала на столе, рождая в черном печальном подвале трепещущие, молчаливые тени, которые, вместе с неясными фигурами людей, словно прислушивались к звукам голоса почти одичавшего лесного человека.
— Э! — квакал он, улыбкой фавна раздирая лягушачий свой рот почти до ушей. — Как хороша африканская пустыня на закате солнца! Багряным шаром погружается солнце на горизонте в раскаленные волны песку; и молчит кругом великанша-пустыня. Только около крохотного оазиса, у маленькой вечно мутной лужицы, стоят высокие тонкие пальмы и, шевеля своими головками, с мольбой смотрят на небо… А небо?.. Безжалостно и жестоко вечно ясное небо пустыни!
Вот пробежало на водопой стадо хорошеньких антилоп… Темнеет. Становится прохладнее…
Савоська величественно протянул перед собой руку и продолжал, вдохновляясь:
— Подул сухум…
— Может быть самум? — поправил из угла ядовитый тенор Михельсона.
— Рахат-лукум! — добавил кто-то.
Все засмеялись. Савоська пришел в бешенство.
— Не перебивайте меня, — крикнул он, — ну, самум, ну, что же из этого? Художник имеет право не знать географии! Ведь я же не был в Африке! Я напрягаю мою фантазию, когда переношу вас отсюда в Сахару, в быт и нравы африканских львов, а вы меня перебиваете! Не буду рассказывать!
— Ну, ну, Савоська, не ужжи!
Савоська с минуту помолчал. Гнев его отошел.
— Расскажу вам другое… О слоне… — примирительно начал он. — Огромный серый индийский слон тяжело ступал по дороге своими могучими лапами… На спине его колыхалась роскошная палатка, в палатке сидел принц с принцессой и детьми, а около головы слона сидел назойливый человечек с острым молоточком и пребольно постукивал слона по затылку. Слон давно уже привык возить на себе принца и давно притерпелся к назойливому человечку, но сегодня ему было особенно грустно…
Дорога шла к старому тропическому лесу, о котором в душе слона еще хранились смутные детские воспоминания: он помнил, как еще маленьким слоненком взят был в этом привольном лесу, полном чудес, и с тех пор жизнь его полна несчастий: его приучили возить на спине палатку, ему постоянно стучали по голове острым молоточком…
Но лес, таинственный лес, внезапно пробудил в нем глубокую тоску по свободе, по веселому умному стаду свободных слонов.
Слон шагал по опушке леса и, хмуря брови, думал: «Э! неужели все слоны возят на себе принца? Неужели так-таки необходимо повиноваться этому ненавистному маленькому человечку, которого можно было бы сбросить самым легким ударом хобота?.. Как хорош лес! как хорош лес! Э!»
Слон шагал через лесную поляну. Могучие деревья шумели под ветром; по гибким лианам лазили проворные обезьяны, дразнили его и убегали на верхушки леса; разноцветные попугаи висели на ветвях вниз головой и смеялись над ним.
Слон шагал и хмурил брови, палатка мерно покачивалась на его могучем хребте, а назойливый человечек все стучал ему по затылку острым молоточком, все стучал, все стучал…
— Вдр-руг… — Савоська опять величественно вытянул перед собой руку и восторженно продекламировал: — Из опушки леса на полянку вышел и остановился в изумлении прямо перед ним — молодой, прекрасный д-ди-кий б-бе-лый сл-лон!..
— До белых слонов доврался! — не выдержал кто-то.
— Да не перебивайте же! — взмолился Савоська. — Иначе я ни одного рассказа не кончу! Ну вот, теперь надо опять что-нибудь новое! Поймите же, что ведь это — импровизация, экспромты! Я и сам не знаю, что и как расскажу и чем кончу! Ну, слушайте!
Э! Весело было в зверинце: старый хриплый оркестрион ревел на три версты кругом, день был праздничный, чистая публика гужом подходила к кассе, где продавал билеты армянин, хозяин зверинца, и двугривенные звонко сыпались в его шкатулку.