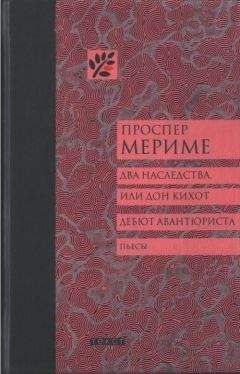«Слушайте, это эхо наших выстрелов», — сказал командир. Но не успел он оглянуться, как пал мертвым, а с ним еще двадцать пять человек. Остальные обратились в бегство и той поры уже не смели больше взглянуть на красную шапку.
Тот, кто сложил эту песню, был вместе со своими братьями у серой скалы; зовут его Гунцар Воссерач.
Почему плачешь ты, прекрасный мой белый конь? Почему так жалобно ржешь? Разве сбруя на тебе не богатая? Разве у тебя не серебряные копыта с золотыми гвоздями? Разве на шее твоей не висят серебряные бубенцы? Разве не носишь ты на себе короля плодородной Боснии? — Плачу я, мой хозяин, потому, что басурман сорвет с меня серебряные подковы, и золотые гвозди, и серебряные бубенцы. И оттого я жалобно ржу, мой хозяин, что проклятый басурман сделает мне седло из кожи боснийского короля.
Кто видел ружье великого бея Савы, тот видел настоящее чудо. На нем дюжина золотых блях и дюжина серебряных блях, а приклад выложен перламутром, и у ложа висят три кисточки красного шелка.
Есть и на других ружьях золотые бляхи и кисточки красного шелка. В Бане Луке оружейники умеют украшать приклады перламутром. Но где отыщется мастер, что смог бы прочесть заклинания, от которых становятся смертельными все пули из ружья Савы?
Бился он с Дели, одетым в тройную кольчугу, бился и с арнаутом в войлочном казакине на семи шелковых подкладках. Но кольчуга разорвалась, как паутина, казакин был пробит, словно лист чинары.
Давуд, первый красавец среди босняков, взял из своих ружей то, что украшено побогаче, и вскинул себе за плечи. Набил он цехинами пояс и выбрал самую звонкую гузлу из десятка тех, что у него были. В пятницу он покинул Баню Луку, в воскресенье был в землях бея Савы.
Вот он сел и тронул струну, и девушки окружили его. Жалобные песни пел он — и все грустно вздыхали; пел он любовные песни — и Настасья, дочь бея, бросила ему охапку цветов и, вся зардевшись от стыда, убежала к себе домой.
Ночью она распахнула окно и внизу увидела Давуда: он сидел на каменной скамье у двери ее дома. Чтобы разглядеть его, наклонилась она, и упала с головы ее красная шапочка. Давуд поднял шапочку и, наполнив ее цехинами, вернул прекрасной Настасье.
«Знаешь, спускается с горы туча, тяжелая от дождя и града. Неужели ты оставишь меня во власти грозы, дашь мне погибнуть у себя на глазах?»
Сняла она свой шелковый пояс, привязала к решетке балкона. И тотчас же красавец Давуд очутился подле нее.
«Говори как можно тише, не то отец мой услышит и убьет нас обоих».
Сперва они тихо шептались, а потом и вовсе замолкли. Красавец Давуд спустился с балкона раньше, чем хотела бы Настасья; заря уже занималась, и он укрылся в горах.
И каждую ночь Давуд возвращался в селение, а с балкона свисал шелковый пояс. Оставался он со своей подругой, пока не начинали петь петухи. А когда раздавалось пение петуха, он уходил и укрывался в горах. На пятую ночь пришел он бледный и весь в крови.
«Гайдуки на меня напали и теперь поджидают в ущелье. Когда наступит рассвет и придется мне с тобой расставаться, они покончат со мной. В последний раз я целую тебя. Но будь у меня в руках волшебное ружье твоего отца, кто посмел бы меня подстерегать? Кто смог бы мне противиться?»
«Ружье моего отца! Но как добыть мне его для тебя? Днем оно у него за спиной, а ночью лежит под кроватью. Если утром он его не найдет, наверняка срубит мне голову».
Горько плакала она и поглядывала на восточный краешек неба.
«Принеси мне ружье отца, а мое положи на его место. Он не заметит подмены. На моем ружье двенадцать золотых блях и двенадцать серебряных блях, а приклад выложен перламутром, и у ложа висят три кисточки красного шелка».
На цыпочках, еле дыша, вошла она в комнату отца, взяла отцовское ружье, а на его место положила ружье Давуда. Бей глубоко вздохнул и сквозь сон воскликнул: «Иисусе!» Но он не проснулся, и девушка отдала волшебное ружье красавцу Давуду.
И Давуд осмотрел ружье от приклада до мушки; по очереди рассматривал он курок, кремень и шкив. Нежно поцеловал он Настасью и поклялся, что вернется ночью.
В пятницу он ее покинул, в воскресенье прибыл в Баню Луку.
А тем временем бей Сава вертел в руках ружье Давуда.
«Видно, стар становлюсь я, — говорил он, — ружье мне что-то кажется тяжелее. Но убьет оно еще много неверных».
И каждую ночь пояс Настасьи свисал с балкона. Но коварный Давуд не появлялся.
Вступили в нашу страну обрезанные собаки, и никто противиться не может их вождю Давуду-аге. Кожаный мешок привязан за его седлом, и рабы наполняют мешок отрезанными ушами тех, кого он убил. Все жители Воштины объединились тогда вокруг старого бея Савы.
Настасья взошла на крышу своего дома, чтобы оттуда увидать жестокую битву, и узнала она Давуда, когда своего коня он направил на ее отца. Бей, уверенный в победе, выстрелил первым, но зажегся только запал, и бей вздрогнул от ужаса.
А пуля Давуда пробила броню Савы. Вошла она в его грудь и вышла из спины. Вздохнул бей и пал мертвым. Тотчас же черномазый раб отрезал ему голову и подвесил за белые усы к луке Давудова седла.
Когда увидела Настасья голову отца, не заплакала она, не вздохнула, но взяла одежду своего младшего брата, вороного коня своего младшего брата и бросилась в гущу схватки, чтобы найти и убить Давуда. И Давуд, завидев юношу-всадника, прицелился в него из волшебного ружья. И смертельной оказалась его пуля. Вздохнула прекрасная Настасья и пала бездыханной. Тотчас же черномазый раб отрезал ей голову. Но усов у нее не было, и снял он с нее шапку и взял за длинные кудри, и узнал Давуд волосы прекрасной Настасьи.
Соскочил он с коня и поцеловал окровавленную голову.
«Заплатил бы я цехин за каждую каплю крови прекрасной Настасьи! Дал бы руку себе отрезать за то, чтобы живой отвезти ее в Баню Луку».
И швырнул он волшебное ружье в колодец Воштины.
Жил да был в Хорватии бан, кривой на правый глаз, глухой на левое ухо. Правым глазом глядел он на нищету народа, левым ухом слушал жалобы воевод. У кого было много богатства, того он судил, а кто бывал осужден, тот умирал. Так-то велел он обезглавить Гуманай-бея и воеводу Замболича, да и захватил их богатства. Под конец прогневили бога его злодеяния, и позволил он призракам мучить бана во сне. Каждую ночь в ногах его постели появлялись Гуманай и Замболич, стояли они перед ним и глядели на него взором тусклым и мрачным. В час, когда звезды бледнеют, когда розовеет небо, тогда — говорить об этом страшно — оба призрака склонялись, словно приветствуя его в насмешку. Падали их призрачные головы и катились по коврам, и только тогда бан мог заснуть. Но однажды ночью, холодной зимней ночью, заговорил Гуманай и сказал ему так: «Прошло уже много времени, как мы тебе кланяемся. Почему же ты еще ни разу не ответил нам на поклон?» Тогда поднялся 6ан, дрожа всем телом. И пока он кланялся им, оторвалась его голова и покатилась по ковру.
Ко мне, старый, седой орел, я Гаврила Заполь. Часто кормил я тебя мясом пандуров, моих заклятых врагов; а теперь я ранен и умираю. Ты можешь отдать своим орлятам мое сердце, мое смелое сердце, но сперва окажи мне услугу. Возьми в свои когти мой пустой патронташ, отнеси его брату моему Джордже, пусть он за меня отомстит. Двенадцать патронов было в моем патронташе, и двенадцать мертвых пандуров ты увидишь вокруг меня. Но всего их было тринадцать, и тринадцатый, по имени Боцай, подло выстрелил мне в спину. И еще возьми в свои когти вышитый платок; отнеси его прекрасной Каве, чтобы она им утирала слезы, которые по мне проливает.
И орел отнес патронташ брату его Джордже и видит: сидит Джордже и попивает водку. И отнес он платок прекрасной Каве — а она справляла свадьбу с Боцаем[138].
Грустная баллада о благородной супруге Асана-аги[139]
Что белеет на зеленых холмах? Снег ли это? Или белые лебеди? Снег бы уже растаял, лебеди бы давно улетели. Это не снег и не лебеди: это шатры Асана-аги. Он лежит и стонет, жестоко болит его рана. Ухаживают за ним мать его и сестра. Только любимая жена, оробев, не посмела прийти[140], и нет ее с ним и у его ложа.
Когда утихла немного боль, велел он передать своей верной супруге: «Не смей на меня смотреть в белом моем доме, в белом моем доме и перед моими родичами». И, услышав эти слова, заперлась жена аги в своей половине, полная печали и скорби. Вот услышала она у дома топот конских копыт, и подумала несчастная супруга: муж ее подъезжает к дому; и бросилась она на балкон, чтобы скорей его увидеть. Но обе ее дочери поспешили за нею: «Стой, милая матушка! Это не отец приехал, это не Асана-ага. Это наш дядя, бей Пинторович».
Остановилась несчастная женщина. Обняла она родного брата. «О брат мой, позор великий! Он меня отвергает, а ведь я родила ему пятерых детей!»