— Вовсе нет, сидеть теперь не принято. Никто не сидит. Все стали очень уж деловые, работают день и ночь, коктейль пьют — и то стоя. Разговаривают — тоже стоя. Садиться не положено. Бедные мы, несчастные! Сидели же люди в добрые старые времена и на диванах, и на креслах, и на стульях. Теперь все эти вещи из моды вышли, сидеть ни у кого времени нет. Вот и топчутся часами, как лошади в конюшне. В Нью-Йорке мне больше всего именно это действовало на нервы — хочешь выпить коктейль после работы, изволь стоять.
Вышли подышать немного морским воздухом, а когда вернулись, Лиленд появилась в гостиной, толкая перед собой столик на колесах, на котором стояли виски, содовая, лед, тарелки с оливками и другими деликатесами. Однако на этот раз гости ни к чему не притронулись — так увлекла их беседа о новом средстве против малярии, говорят, более эффективном, чем хинин.
— А по мне, так любая лихорадка лучше, чем бессонница. Придумали бы какое-нибудь средство, чтобы спать. Ведь это ужас — сосешь, сосешь ночь, как леденец, и конца ему не видно, и приходится наконец, хочешь не хочешь, этот проклятый леденец глотать. Право, едва начинает темнеть, я уже чувствую, как ночь стоит у меня поперек горла и жжет, и во рту сохнет, и начинается озноб…
— Я одно время тоже не спал, глаз не смыкал, сказал Том только для того, чтобы нарушить мрачную паузу, последовавшую за словами Эрни Уокера.
— От этого нет лекарств, — добавил Розе.
— Вот и досадно! Придумывают то одно, то другое, от лихорадки, от сифилиса, от цинги, от черта и дьявола, а вот такого не могут отыскать, чтоб человек положил голову на подушку, закрыл глаза и заснул сном праведника.
— Так это же не болезнь.
— Да? А что же?
— Просто скверная привычка.
— Скверная привычка? Тогда почему дома у меня была привычка спать девять часов в сутки? А вот приехал сюда и ночи напролет не смыкаю глаз, бросаюсь от снотворного к виски, от виски к снотворному…
Помолчали. Лиленд села к роялю. Чистые звуки Моцарта наполнили душную гостиную. Стараясь не шуметь, гости один за другим расселись вокруг рояля. Лишь Том Бекер остался стоять.
За карты в этот вечер сели поздно. Лестер тасовал колоду, глядел на гостей, едва скрывая усталость.
Прошел час, два, три… Жара сгущалась. Гудели бесполезные вентиляторы, мелькали их крылья, руки, карты… Партия, партия, партия… Ну, эта последняя… Нет, нет, еще одну, еще только одну… Еще одну… Когда же наконец последняя? Но вот — «играем на честное слово», это уж в самом деле последняя. Четыре часа утра.
Лестер Мид сел на своего каракового жеребца и отправился в «Семирамиду» повидать Аделаидо Лусеро или его сыновей. Стоило выехать за ворота, и он снова почувствовал себя Швеем, тем прежним Швеем, что торговал «всем для шитья» и смеялся «а-ха-ха-ха-ха!». Швей… Лестер дорожил этим прозвищем, своей кличкой. Противно все-таки проводить ночи за картами — сидишь, словно приговоренный, и смотришь, как за окном встает новый день, прекрасный и беспощадный.
Навстречу шла толпа рубщиков. Вздымая меднокрасные, как языки пламени, руки, сверкая белыми зубами, они кричали, грозили, и даже простые мирные слова звучали в их устах как проклятия. Швей, Лестер Мид, Стонер (так его тоже иногда называли) был свой — безобидный малый без царя в голове. Они его знали, помнили его хохот «а-ха-ха-ха-ха!». От Швея скрываться нечего. И Лестеру тут же выложили все.
— Мы не требуем, чтоб больше платили! — кричали они. — Ладно! Но пусть не трогают наших женщин! Пусть уважают их! Не то мы всех перебьем!
Они кричали, яростно размахивали мачете, и каждый ощущал запах женщины, запах ее одежды, ее волос, теплый, зовущий, сводящий с ума запах, и кровь гудела в жилах, и женщиной пахла трава, оплодотворенная солнцем.
Какой-то мерзавец ограбил женщину, раздел и отпустил. Она шла голая через заросли, кто-то вышел навстречу и бросился на нее (он все-таки был мужчиной). Тут явился еще один (этот оказался еще больше мужчиной). Они стали драться, женщина воспользовалась моментом и хотела бежать, и убежала бы, спаслась бы от этих зверей, да наткнулась на охранников.
Знакомая с давних пор земля бежала под ноги коня. Вскоре Швей оказался у дома Лусеро. Ни Аделаидо, ни его сыновей не было. Донья Роселия сказала, что они пошли успокаивать народ. Люди не хотят работать, требуют суда над насильниками. Расплавленное олово льется с неба. Любой мятеж, любая попытка отстоять свое человеческое достоинство задохнется, иссохнет в этом белом пламени. Самый непокорный смирится, когда облепит со всех сторон лихорадка, окутает тьма, желтая, как те проклятые порошки, которые привозят янки, чтобы убивать детей еще во чреве матери, и будешь молча терпеть издевательства, унижения, «дерьмо тебе в гроб», как говорит Аделаидо Лусеро, когда упустит стремя.
Но сегодня Аделаидо сидел в седле гордо, словно на троне. Он выполнял свой долг. Каждый должен выполнять свой долг, каждый, так положено. Лестер Мид спросил, какую цену дают за бананы.
— Двадцать пять золотых сентаво за девять гроздьев.
— Это грабеж, — сказал Лестер.
— У нас тут везде грабеж.
— Я буду протестовать.
— Только время потеряете. Отдайте лучше за эту цену. А то сгниют, и все тут. Отдавайте, чего уж. А до следующего урожая время есть, можете, пока созреет, съездить хоть в Чикаго.
— И съезжу.
Лестер повернул лошадь и поскакал домой. Увидал мокрые следы на ступенях и сразу понял, кто приехал. Лусерята — Лино и Хуан, Бастиансито Кохубуль и братья Айук Гайтан оживленно беседовали с Лиленд. Она с трудом выговаривала немногие известные ей испанские слова, а они терпеливо втолковывали ей что-то, твердили одно и то же, громко и внятно.
— Привет, красавчики! — крикнул Лестер. Так он всегда здоровался с ними в те времена, когда торговал «всем для шитья».
Все заговорили разом, но Лестер остановил их. Он объявил, что едет хлопотать о повышении цен.
— Пока вы туда доедете да пока поговорите, у нас все бананы сгниют в чертову кашу, — сказал Бастиансито и поглядел на товарищей — согласны ли.
— Пусть пропадет один урожай, зато установим Цену раз и навсегда. За следующий получим по справедливости.
— Оно, конечно, хорошо бы, хорошо бы, конечно… Да только… — начал Макарио Айук Гайтан медленно, повторяя одно и то же, — да только тут такая получается история подлая, бананы-то, они уже поспели, и выходит, все наши труды черту под хвост.
— Я так и думал, что тут нам ловушка, — подхватил Хуан Состенес, покачиваясь на кривых ногах. — Ловушка с двойным дном, потому если продать — ничего не заработаешь, а не продать — все потеряешь.
— Ну, как знаете, а я не продам ни за что, у меня злость в душе созрела не хуже банана. — Все засмеялись, и Лестер тоже. — Не продам я им ни одной грозди. — Лицо Лестера постепенно краснело. — И вовсе не потому, что могу ждать. Вы знаете, я в долгах по горло. Но надо же как-то защищаться, если цену дают не по совести.
— Цена, конечно, несправедливая. Сговорились они нас надуть. Обман, ясное дело, обман. — Хуан Состенес качал головой.
— Конечно, обман, — поддержал Лино Лусеро, им-то ведь платят за наши бананы гораздо больше. Что им стоит прибавить нам несколько сентаво?
— Все верно, все верно, — сказала Лиленд на своем ломаном испанском. Она выходила за почтой и теперь стояла в дверях, держа в руках несколько конвертов.
Лестер стал объяснять жене, о чем спор, но спор, в сущности, шел дальше, только теперь на английском языке, — оказалось, Лиленд тоже считает, что надо отдать бананы за ту цену, которую предлагают.
Супруги говорили между собой бурно, но недолго. Лестер снова перешел на испанский. Он сделает так, как сказал, заявил он, пусть платят справедливую цену, он будет требовать, он не позволит обманывать честных земледельцев на их собственной земле.
— Главная-то подлость и есть, что обманывают. Помогают всячески, ничего не скажу, и когда болезнь нападет тоже, а вот как бананы поспеют, не дают настоящую цену, хоть ты что.
— Я и говорю, ловушка, — стоял на своем Хуан Состенес и все качал и качал головой.
— Никто им, конечно, цену не снижал там, где они продают наши бананы. Нечестные люди. Что им стоит немножечко нам прибавить? Держи карман! Плохие люди и, главное, притворяются хорошими. Сами вроде добро делают, а зло таят. Самое это плохое. Посмотришь, и добрые они, и щедрые…
— Хе! Ты, я гляжу, расчувствовался! У нас многие так — ходят, бедняги, и чуть не лопаются от благодарности! — воскликнул один из братьев Айук Гайтан.
— Ну нет, парень, я всегда говорил: «Тропикальтанера» помогает не даром, придется еще нам за ее доброту расплачиваться.
— А что до бананов, так нечего и толковать, сказал Бастиансито, — я вчера видел одного их начальника, этого, который все табак-то жует, мистер… как его… мистер черт-те кто…
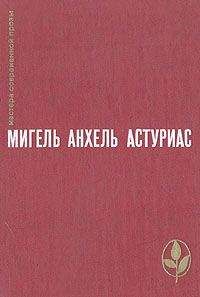
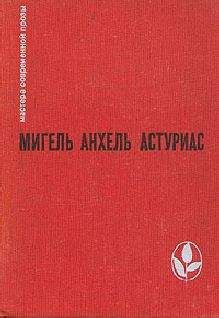
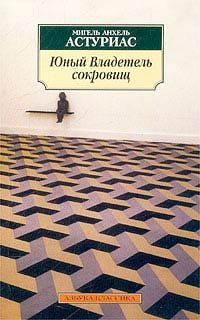
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)
