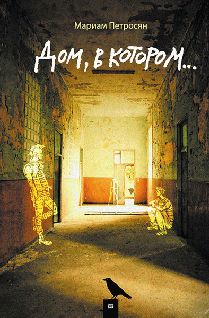Он говорил не о нас, а о чем-то, что было раньше.
— Хорошо, — согласился Сфинкс. — Мы примем тебя. Только поклянись, что не будешь взрывать аппаратуру, вызывать грозу, летать на метле и превращаться в зверей.
Стая захихикала над шуткой, которая вовсе ей не была.
— Я ничего из этого не умею, — серьезно сказал новичок. — Но я понял тебя, и если так надо, то я клянусь.
Стая опять развеселилась. Одному мне не было смешно. Так у нас появился Македонский.
Новичок — это всегда событие. Они совсем-совсем другие. На них даже смотреть интересно. Смотреть и видеть, как они понемногу меняются, как Дом засасывает их, делает частью себя. Многие терпеть не могут новичков, потому что с ними много возни, но я, например, их люблю. Люблю наблюдать за ними, люблю расспрашивать и дурачить, люблю странные запахи, которые они приносят с собой — и много всего еще, что не объяснишь словами. Там, где есть новичок, скучно не бывает.
Так было с Лордом и со всеми, кто был до него — вообще со всеми, кого я помнил. А с Македонским — нет. Он пришел, как будто и не снаружи — еще более здешний, чем мы сами, с тенью решеток на лице, с голосом тихим, как шелест дождя, со знанием Законов не хуже, чем у Слепого, с воспоминаниями о каждом из нас — словно здесь он родился и вырос, словно всю жизнь он впитывал окружающие цвета и запахи. Самый здешний из всех, кого я встречал. Он сдержал свое слово и не делал ничего такого, чего не умели остальные. Он вел себя даже тише, чем надо. Только закатывался иногда, ломая и круша все вокруг, но это случалось редко. Единственное, что он себе позволял необычного — прогонять наши плохие сны. Я видел, как он это делает. Вдруг вскочив, он подходил к кому-нибудь из спавших, шептал в ухо что-то неслышное и отходил. Мы перестали просыпаться от криков — чужих и своих собственных — и ночи стали намного спокойнее. Кроме тех, что наступили после Волка…
Я ловлю эту мысль и пробую развернуть ее обратно.
Не думай об этом! Кроме тех ночей… Тогда был бессилен и Македонский. Тогда…
Хватит! Об этом нельзя думать!
С трудом, но все же мне удается притормозить. Я вдруг замечаю, что плачу, и радуюсь, что идет дождь. Уже настоящий. Запрокидываю голову, чтобы промокнуть сильнее. Меня начинает трясти от холода, который, пока я думал о другом, давно уже пролез под куртку и под все жилетки. Даже зубы стучат. Пора возвращаться.
Подъезжаю к крыльцу и жду. Стемнело быстро и незаметно. В окнах за занавесками мелькают тени. И музыка, вроде, громче обычного, а может, мне так кажется из-за дождя и темноты, в которых я совсем один, всеми брошенный и забытый. Становится обидно. Потом очень обидно. Потом ужасно обидно.
— Ты чего орешь, Табаки? — Македонский сбегает по лестнице, держа над головой растянутую куртку. — Сам же хотел остаться.
— Хотел, а потом передумал. А скат слишком скользкий, сам понимаешь. Пришлось звать на помощь.
Он затаскивает меня в лифт, где я демонстративно трясусь и стучу зубами. Нагибается ко мне, заглядывает в лицо.
— Что тебе померещилось, Табаки? Я же вижу…
— Много всякого разного. Молод ты еще про такое слушать.
— Ну извини. В другой раз не стану оставлять тебя надолго.
По пути в спальню, объясняю Македонскому, чем отличается любовь к дождю мелкому от любви к дождю проливному. Последний выводит из строя транспортные средства, не предназначенные для эксплуатации в непогоду. Люби его, не люби, а коляску лучше в сырости не держать. «Мустанг прослужил достаточно долго, и заслуживает бережного к себе отношения. Даже если забыть о его назойливом и малоприятном седоке-хозяине…»
— Хватит, Табаки, — просит Македонский. — Я и так уже сегодня не усну.
Пока он меня сушит и переодевает, достаю из кармана камешек. Здорово мешает елозящее по голове полотенце, но все-таки я умудряюсь его разглядеть. Он продолговатый и голубой, цветом и формой ужасно на что-то похожий, вот только на что? Кручу его так и сяк, рассматриваю, пытаюсь угадать.
Македонский заворачивает меня в халат и прячет под одеяло. Закутываюсь, зарываюсь поглубже и думаю дальше. Камешек нагревается у меня в руке. Мы засыпаем вместе, и я вижу сон, и это сон про него и про то, на что он похож.
Просыпаюсь под тихие гитарные переборы. Темно, только красный китайский фонарик совсем низко над кроватью, но он почти не дает света. Смотрю на него долго, и меня как будто покачивает вместе с ним.
Где-то рядом голос Сфинкса поет про черную шину грузовика, в которой круг ржавой травы… За стеной странный шум. Что-то вроде гулянки. Стягиваю с себя одеяло и сажусь. Неужели я прозевал ужин? Такого давно не бывало.
На грунтовой дороге
Солнечный свет с пылью…
Песня Сфинкса ужасно знакомая. Над грифом гитары качается голова Стервятника. И, вроде бы, ноги Валета свисают со спинки кровати. Его правую ни с чем не спутаешь…
— Проснулся? — шепчет Горбач у меня над ухом. — Ты, случайно, не заболел? Чтобы ты прозевал ужин…
— Если и заболел, то не случайно. А что это за шум за стеной?
— Празднуют принятие Нового Закона. Забыл? Мы тоже в некотором роде празднуем. Старой компанией.
Я вспоминаю. И еще свой сон. Камешек у меня в кулаке, совсем мокрый. Теперь я знаю, на что он похож и это очень странно.
Ни слова! Ни слова!
За меня говорят мухи и что-то присочиняет ветер…
Самоге главное — мой сон. Который нужно исполнить. Так мне кажется. Тусклый, розоватый свет фонарика. В нем, как осколки, тарелки с бутербродами. Звон стаканов, в них колышется черное вино. Старая компания Стервятник, Валет, Слон и Красавица. Рука сама тянется за гармошкой — и сама отдергивается. Не до того. Надо не забыть… Хватаю ближайший бутерброд и ем.
Бреду назад в одинокий домишко…
Горбач нежно свистит в флейту. Раскачиваясь, толкает меня. Позади кто-то раздражающе громко чавкает.
После двух недель одиночества…
Гитару передают Валету, и он разражается серией печальных аккордов. Бутерброд кончается, а сразу за ним, другой.
Худенький краснолицый в веснушках мальчишка ушел от мира на пять минут, — сообщает нам Стервятник хрипловатым тенором. — глядя в стаканчик с мороженым…
Сквозь «Скалистые горы» прорывается шум веселья из других спален. На голос подползаю к Стервятнику.
— Слушай, ты не мог бы одолжить мне свою стремянку? Это очень важно. Только не спрашивай зачем, если не трудно.
Розовый от фонаря, как и все вокруг, он нагибается ко мне и дышит вином:
— Какие проблемы? Конечно. Она твоя на сколько захочешь.
Стервятник шепчется с кем-то, кого мне не видно, потом опять поворачивается ко мне:
— Езжай с Красавицей. Он скажет мальчикам, ее тебе вынесут.
— Спасибо. Я его позову, когда буду совсем готов.
Переползаю бутерброды, ноги и бутылки — и вот я на полу, а камешек у меня в кармане, и мне не терпится узнать, успею ли я то, что задумал, до выключения света. Все поют и гудят — обидно их оставлять, но нужно спешить.
Переодеваюсь в самое теплое, что нахожу. То, что мне нужно в тамбуре, в ящиках под вешалками. Свет плохой, но после фонарика и он кажется ярким. Достаю из ящика тряпки и окаменевшие кеды — одну никчемную вещь за другой. Из спальни доносятся гитарные извращения Валета и подробности всяких песен. Я нервничаю, но наконец нахожу, что искал: кисти и банку белой краски с прилипшими к ней тряпками. Беру их, а еще всякую мелочь, которая может пригодиться, и зову Красавицу.
Жду его у двери третьей. Там внутри тихо, хотя в других спальнях лязг и завывания. В вестибюле скачут хохлатые тени плясунов. Среди них, должно быть, и наш Лэри.
На мне самая теплая жилетка, но все равно холодно. У меня в руках банка с краской вся в подтеках. Остальное — скребок, нож и кисти — я пытаюсь распихать по карманам, где мешают какие-то остатки жратвы, и я вытряхиваю их из на радость крысам, которым посчастливится сегодня здесь пробежать.
Из третьей высовывается Гупи.
— Эй, — окликает он. — Куда ставить?
Я показываю куда. Выносят стремянку. Гупи пыхтит и громыхает, а Красавица все время натыкается на ее ножки — больше мешает, чем помогает. Зевая, за ними выволакивается Дронт в пижаме.
— Чертовы Логи слиняли отмечать всякую ерунду, — жалуется он. — А куда нам с нашим здоровьем таскать такие тяжести?
— Приказ Папы есть приказ, — говорит ему Дорогуша, который тоже в пижаме и с подозрительной бутылкой под мышкой.
— Хлебнем за Новый Закон? — предлагает он, подъезжая. — Все так радуются, грех не порадоваться вместе с ними.
Пока стремянку устанавливают, мы пьем какую-то самодельную дрянь, лично им сотворенную.
— А теперь, подсадите меня, — говорю я.
Посмотреть, как меня подсаживают, выходят еще трое. Дракон беспокоится, что я свалюсь, а Ангел — что меня стошнит на стремянку Стервятника. На самом верху, видно, какой грязный потолок и сколько везде паутины. Стена тоже грязная и темная. Утепляюсь, подстелив под себя плед Дракона. Места так мало, что банку приходится держать на коленях. И еще страшно оттого, что можно загреметь с такой высоты вниз, пересчитывая перекладины.