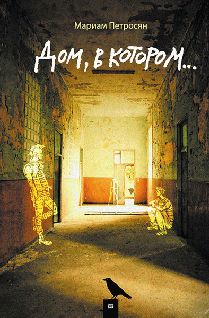Посмотреть, как меня подсаживают, выходят еще трое. Дракон беспокоится, что я свалюсь, а Ангел — что меня стошнит на стремянку Стервятника. На самом верху, видно, какой грязный потолок и сколько везде паутины. Стена тоже грязная и темная. Утепляюсь, подстелив под себя плед Дракона. Места так мало, что банку приходится держать на коленях. И еще страшно оттого, что можно загреметь с такой высоты вниз, пересчитывая перекладины.
Я тихо вздыхаю и, махнув столпившимся Птицам, начинаю рисовать. Как я и думал, им скоро надоедает мерзнуть, таращась на мои не видимые снизу каракули, и они разбредаются один за другим. От мерзкой фигни, которую Дорогуша почему-то окрестил текилой, кружится голова. Я рисую дракона, стоящего на задних лапах. Дракон получается странный: немного похожий на лошадь, немного на собаку. Рисуй я его в более удобном месте, вышло бы лучше, но здесь и так сойдет. Вывожу клыки и острые когти на передних лапах. Когти — это важная деталь. Когда уже можно догадаться, что передо мной именно дракон, вскрываю банку с краской и замазываю его белым.
Краска — одни комки, волосы и прочая давным-давно затонувшая в банке гадость. Все на моем бедном драконе. Дрожащей рукой вывожу по его хребту белые зубчики. Время мне не друг, хотя я, кажется, успеваю. Но радоваться рано. Не дожидаясь, пока дракон просохнет, достаю из кармана перочинный нож и начинаю выковыривать дырку глаза.
Адова работа. Когда дырка уже почти готова, банка с краской падает с коленей и летит вниз. Грохот. Еще некоторое время она катается по полу, пока, наконец, не застревает где-то. А я все ковыряю глаз, хотя дырка уже довольно глубокая. Пробую ее пальцем. Остались лилии. На полусыром драконе я процарапываю их кончиком ножа — кривые геральдические лилии — где только можно. Когда заканчиваю, дракон — уже не просто дракон, а Лорд. Потому что если хочешь нарисовать его быстро, и чтобы всем было понятно, то лилия — это Лорд. Ставлю свою подпись.
Когда выключается свет, я уже почти закончил, и ищу в кармане заветный камешек цвета Лордовских глаз. Дракон, стена и я сам — все исчезает в потемках. Это не страшно. Достаю фонарик, свечу в глазницу и вставляю в нее камешек. Он держится. Может, подходит, а может, просто прилип к краске.
Я исполнил свой сон. Вот оно — драконье привидение в лилиях и с Лордовским глазом. Бежит, когтями вперед, в сторону нашей спальни. Это к возвращению, или еще к чему-то, о чем я сам пока не имею понятия. Мое дело было посадить его сюда. Гашу фонарик и сижу в темноте. Весь липкий от краски.
Сижу не знаю сколько, пока внизу не начинают топать, шарить фонариками и куковать.
— Ку-ку, ку-ку, — говорю. — Здесь я. Вы бы еще завтра утром вышли поискать. Может, нашли бы мои истлевшие кости.
— Не скандаль, совушка, — просит Сфинкс. — Кто же виноват, что ты решил ночевать в таком дурацком месте?
— Но-но! — встревает нетрезвый голос Стервятника. — Попрошу не хаять мой царственный насест.
Они светят на меня и хихикают. Потом кто-то спотыкается об банку и вляпывается в краску. Тогда хихикать начинаю я.
— Черт! — кричит Горбач. — Весь коридор в дерьме! Он устроил здесь ловушку для ни в чем не повинных людей. Из птичьих какашек!
Меня снимают и уносят. Несет Македонский, а остальные сзади тащат Мустанга. Размахивают фонарями и поют:
За синие горы, за белый туман…
В пещеры и норы уйдет караван…
Больше всего не люблю быть трезвым в пьяной компании. Но мне за ними уже не угнаться. Даже с текилой Дорогуши.
За быстрые воды уйдем до восхода,
За золотом гномьим из сказочных стран…
Вносят меня и входят гуськом. Последним — Горбач, попискивая в флейту. Спальня раскуроченная и страшная. Свет ночников веерами по потолку. Македонский сажает меня на кровать, а «уходящий караван» цепочкой кружит по комнате. Должно быть выискивая «пещеры и норы».
В тарелке с бутербродами распластанная Нанетта. Вынимаю ее, нахожу уцелевший бутерброд, который и съедаю. Остальные тарелки пусты. На моем любимом месте спит Слон в обнимку с каким-то красным шаром. При ближайшем рассмотрении — с нашим китайским фонариком.
Шумели деревья на склоне крутом,
И ветры стонали во мраке ночном…
Рыжий и Слепой вальсируют, натыкаясь на мебель. Слепой громко считает: «Раз, два, три… Раз, два, три… Раз…» На каждом заключительном «раз» они застывают, вскидывая руки, а танцующий вокруг Горбач натыкается на них и тоже застревает.
— За девушек! — провозглашает Стервятник непонятно кому и задумчиво нюхает свой стакан. Что он там нюхает? Вроде бы, они уже вылакали все, что здесь было жидкого. Догрызаю бутерброд. Я сварлив и сам себе неприятен.
Сфинкс плюхается рядом, подмигивает, и доводит до моего сведения:
— Дракон есть существо мифическое… Белый же дракон является существом мифическим вдвойне, будучи, впридачу к прочим своим качествам, альбиносом, то есть патологией даже среди себе подобных.
— Увидел! — удивляюсь я. — Разглядел! В такой темноте!
— Я вижу все. Не потолок же белить ты туда взобрался.
Сидим и смотрим на остальных, которые потихоньку угасают. Кто-то хрипло и фальшиво поет с подоконника.
— А это чье? — спрашиваю я, приподнимая за ремешок незнакомый протез. — Вроде бы, здесь нет никого из этих…
— Это шутка, — мрачно сообщает Сфинкс. — Веселая шутка. Воровская шутка, можно сказать.
Больше ни о чем не спрашиваю. И вообще ложусь спать. Чувствую себя неопрятным и пожилым. Зато я выполнил свой сон — его нельзя было не выполнить. Долго не могу согреться, а когда наконец согреваюсь и засыпаю, меня тут же будит Черный, который декламирует Киплинга и стучит кофеваркой о спинку кровати. Многие еще не спят, и кто-то пробует его утихомирить, а у остальных что-то в самом разгаре — то ли спор, то ли научный диспут — я засыпаю опять, не вдаваясь в подробности.
Второй раз, ближе к утру, меня будит жуткий гиеновый хохот, переходящий во всхлипывания. Кроме гиены все спят, и даже свет уже выключен.
В третий раз я просыпаюсь на рассвете непонятно от чего. Праздник давно закончился, в окна вползает серое утро. Вокруг лежат вповалку и сопят. Все тихо и спокойно, если не считать еле слышного подозрительного тиканья — той самой гадости, которая меня и разбудила. Ищу на нюх, на слух — и нахожу. Чьи-то часы притаились в одеяльих складках. Осторожно снимаю их с руки, на которой они поселились и, свесившись с кровати и нашарив пустую бутылку, кладу их на пол и крушу донышком, как молотком. Очень скоро они перестают тикать.
Спящий на полу Черный приподнимается, сонно таращится на меня. Потом падает обратно. Сбрасываю на него чей-то свитер и зарываюсь в свое пропахшее краской гнездо.
ИСПОВЕДЬ КРАСНОГО ДРАКОНА
«За грехи свои надо расплачиваться».
Это вдолбил в меня мой дед, мой сумасшедший дед, который, я надеюсь, горит сейчас в аду, потому что если и правда есть на свете такое место, то оно для него и для таких, как он. Я проклял его всеми доступными мне проклятиями и это его подточило — совсем слегка, потому что он умел сопротивляться, к тому же мы с ним одной крови, и я рикошетом получил часть своих проклятий обратно. Пусть горит, как газовая конфорка, разливая вокруг себя жар, он, не давший мне ни крупицы тепла…
Белая табличка на стене с непонятными буквами, склоненные головы, пять десятков бритых голов, шепот молений и заклятий… «Три их лимонным соком, черт тебя подери, три, пока не устанут руки, потому что разве бывают ангелы, покрытые веснушками с головы до ног? Нет, не бывают, и ты покрылся ими мне назло, уж я-то наизусть все твои фокусы знаю!» Поэтому ни одного солнечного лучика, только тьма зашторенных комнат, и, может быть, они и вправду появлялись назло там, где им не полагалось быть, рассыпались по коже ободранной лимонным соком, не видевшей солнца. Белая тога, забрызганная лимоном, засохший венок из ромашек с белой серединкой, и «сотвори же нам чудо, сотвори его!» Чудеса, которые не были чудесами, и лак на ногтях, и цветные линзы от которых слезились глаза. Но… «нангел же не может не быть, мать вашу, синеглазым!» Дед ругался, как матрос, когда его не слышали возлюбленные сыны и дщери. Стоило уйти последнему, лицемерная святость летела в мусорное ведро, и чудовищный старикашка садился поглощать свой обед из трех рыбных блюд. Венок набекрень и тонкие рыбьи кости, извлекаемые из чавкающего отверстия. Он никогда не пользовался салфетками. Никогда. «Потому что это излишество, неподобающее божьему человеку, запомни, мой крылатый…» Вилки и ножи ему тоже не подобали. А мне — стол и стулья, и вообще, «ангелы не едят, хи-хи-хи, они сыты духом святым!» А проклятия ангелу подобают? Нет, конечно. Они бьют разрядами чистого тока, пронизывая тело до последнего волоска. Наконец, однажды… зачарованная рыбья кость сделала свое дело. Это было первое настоящее чудо, которое я сотворил: из «ДОМА ОТЦА» — большими буквами — перешел просто в дом, который при желании можно было бы называть материнским. Вот только у меня ни разу ни возникло такого желания. Из дома в дом, из ангела в дебилы, потому что «он даже не умеет читать, этот недоразвитый!» И «…за что нам, интересно, такое наказание?!» Чудеса их только пугали, они были им совсем не нужны. Кроме тех, что показывали по Ящику. Ящик был их богом. Они не склоняли перед ним голов и не шептали молитв, а просто смотрели через прозрачные стекла очков, но результат все равно был одинаков, что тут, что там. С той небольшой разницей, что там я был все-таки зачем-то нужен.