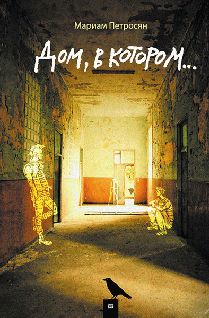О старом авантюристе, околдовавшем множество людей, писали газеты. Ящик провозгласил это как истину. Но был он вовсе не авантюристом, а просто мерзким, выжившим из ума старикашкой. Но Ящик непогрешим, он никогда не лжет — и меня повели в божий дом, отмывать греховные дедовские следы святой водой. Отмыли, окрестили — но продолжали приходить письма. И психи с обритыми наголо головами продолжали меня выслеживать, а выследив, валились лбами в асфальт, и цеплялись уже не за край белой тоги, как раньше, а за край свитера, карман куртки, отдирая его с мясом, и «…Боже, как мне все это надоело! Новенькая куртка! Мы целое состояние на нее потратили! Его просто нельзя выпускать из дому — это позор семьи!» И «неужели нам никогда не забыть этот кошмар?» И опять зашторенные окна и лампы, и гудение Ящика, а вокруг дома бродят бритоголовые — они обнюхивают стены, тихо скребут их ногтями в поисках своего ангела, который стал для них настоящим наркотиком, если не чем похуже. И то, что они ищут, надо убрать все равно куда, ведь так жить опасно, и в конце концов «они мочатся в подъезде, все соседи возмущены, и этот стук по ночам, и звонки, и все это невозможно, совершенно невозможно переносить!..» И вот, «материнский дом» сменился просто «Домом». А предшествовала этому молитва. Единственная настоящая из тысяч. Единственная, в которой я попросил что-то для себя самого, не зная толком, чего именно я прошу. Ее услышали — а может, это было просто совпадение, хотя совпадений не бывает, — и я очутился в Сером Доме, в месте, созданном для таких, как я, никому не нужных — или нужных, но не тем.
Только увидев его, я понял: это то самое о чем я просил. На стене было написано «Привет всем выкидышам, недоноскам и переноскам… Всем уроненным, зашибленным и недолетевшим! Привет вам, дети стеблей!» Я умел читать, хотя жившие в материнском доме и утверждали обратное. И вошел, веря, что моя молитва была услышана. Я вошел и стал Македонским, оставив позади Ангела и Дебила — обоих без остатка, потому что …Если хочешь остаться с нами, то никогда — слышишь? — никогда никаких чудес, ни плохих, ни хороших, ни средних.
Я сказал «да» и под пристальным взглядом зеленых глаз стал Македонским — чужой тенью и чужими руками. И я старался, очень старался, хотя сказать «да» — это просто, намного проще, чем потом все время об этом помнить. Серые стены Дома в говорящих буквах, и «не надоело тебе в рабстве, конопатый?» Нет, не надоело, совсем нет, ведь что это не рабство — и вообще, кто из вас знает, что такое рабство?.. Вам знакомо одно лишь слово, и представляется вам лишь негр на хлопковых плантациях — дядя Том или дядя Сэм — а слышали ли вы о тех, с бритыми головами, которых водили за невидимые кольца в носах? Или о ручном, бескрылом ангеле на цепи… Знакомы ли вам лимонные рассветы с ритуальными песнопениями? Чудо взорвавшегося Ящика-пророка, замолчавшего навек? Кот, который вдруг одичал, решив обрести свободу — малое чудо в божьем коробе чудес — я не заколдовывал его, нет, что бы ни говорили, это было просто чудо подаренное ему не мной, но через меня…
В каждом доме свои порядки, которые нельзя нарушать. В каждом доме свой цербер, следящий за порядком. Дед, мать, Сфинкс. Они ставили передо мной заслоны из запретов, перегородки, отделяющие меня от меня самого, но только преграда, которую поставил передо мной Сфинкс, остановила меня. Потому что я сам этого захотел. Сфинкс ни в чем не был виноват передо мной. Он не производил меня на свет и не продавал сумасшедшим родственникам, он не лишал меня детства и не морил голодом. Он поставил одно-единственное условие и больше ничего не требовал. И… Все-таки я сам захотел покоя и тишины, и новой жизни, как у всех, и сам произнес молитву, перенесшую меня в Дом. Вот почему это не было рабством. Только Сфинксу я рассказал о других домах, только он знал обо мне все. Тонкой леской он связывал меня с прошлыми жизнями и незаметно приучал к новой. Он совсем не боялся меня — я давно научился различать страх под тонкими корочками человеческих лиц. Почему именно он, я и сам не знал. Так вышло. Только вначале он неприятно напоминал мне бритоголовых, но потом это прошло. Все что было в нем от них — лысый череп — никогда, никогда я не видел собачьего выражения в его глазах. «Найди свою шкуру, Македонский, найди свою маску, говори о чем-нибудь, делай что-нибудь, тебя должны чувствовать, понимаешь? Ты исчезнешь, если тебя не будет все время с нами». О чем говорить? Что делать? Откуда взять маски, которых никогда не носил и слова, которых не знаешь? Он кричал и ругался, потом успокаивался… «Черт с тобой, не делай ничего, если не можешь, это, в конце концов, тоже маска. Но когда твое тощее тело находится в этой комнате, ты должен присутствовать здесь же, и ты должен что-то делать, чтобы на тебя не пялились и не втягивали в разговоры». И… С утра до ночи — чужие окурки, мокрой тряпкой по клочьям пыли, губкой по кофейным следам, ложкой в чужой рот, а надо всем этим — глаза, пронзительнее, чем у деда, в них не смотреть ни за что… Это табу, нельзя… И «проветри комнату, Мак». И «передай мне брюки». И «помоги влезть в эту дурацкую майку». «Где спички?» «Помой Толстяка…» И «подгони-ка коляску…» И занозы в пальцах, белых от воды, ноющих от порошка пальцах, и плачущие ранки от заусениц… И «он опять выключился, этот тип… Слушай, где гуляют твои мысли, Македонский?» «Полководец опять в облаках. Дайте ему веник, пусть очнется…» «Он странный парень, этот Македонский, ему только дай поубираться…» Это — и стены Дома, и закон Дома, и воспоминания Дома, и драки, и игры Дома, и сказки Дома — и все хорошо и просто, если бы не страх, который всегда рядом, который можно лишь ненадолго забыть, но совсем ненадолго, потому что он всегда возвращается, обрастя новыми колючками. Страх перед неизбежным концом, перед прилюдным сдиранием новой, свежевыросшей кожи, перед длинноногим Сфинксом, который носит в себе знание обо мне настоящем. Имеющий власть над кем-то, неужели не воспользуется ей?
— Ты боишься меня, Македонский? — зеленые глаза прожигают, и я сворачиваюсь черной коркой с углов, и… Да! Да! Да! Я боюсь, и что дальше? Ты не боялся бы на моем месте? «Если бы я мог быть в двух местах одновременно, в тебе и во мне, я бы не боялся. И ты не бойся. Поверь, мне ничего от тебя не нужно». Он говорил правду, но я не верил. Он приручал меня тихо и незаметно, я этого не понимал. Он заставлял меня читать и заставлял говорить с ним о книгах, он заставлял слушать музыку и говорить о ней, заставлял придумывать глупые истории и рассказывать их ему. Сначала только ему, потом другим. Он выжал из меня страх и заставил верить себе. И я был счастлив и больше не боялся его глаз. Я вообще больше ничего не боялся, хотя запрет не был снят, мне надо было помнить об этом. Но мне было слишком хорошо, я растаял от тепла, которое он дарил мне за всех, кто не додал его прежде, от их тепла, от тепла, что я получал от них и отдавал им обратно. Надо было помнить, а я забыл. Первыми начали руки — потихоньку, машинально они крали чужую боль, а я уносил ее в горячих ладонях и смывал в раковину. Она уплывала по трубам, а я стоял на дрожащих ногах, чувствуя усталость и пустоту; это было прекрасно, и — честное слово — вовсе не было чудом, а значит, я не нарушал своей клятвы. Так я думал тогда. Постепенно вокруг меня вырос мир, сияющий в золоте рассветов и пламени закатов. Я вскакивал раньше всех, босой, и выбегал в коридор, чтобы не упустить самый прекрасный час, пробежать по пыли, почувствовать свое тело, свои ноги, и как они умеют бегать. Я вставал под еле теплый душ, дрожа, и пел — старые гимны и песни, которым научился недавно, — распугивая тараканов, и устраивая наводнения. Это был я. Македонский, весь в веснушках, белый и тощий. Македонский — про которого никто ничего не знает. Македонский, который грызет ногти, Македонский, которого надо подкормить, Македонский у которого торчат передние зубы, которому скоро шестнадцать, у которого весь мир, у которого восемь друзей, который счастлив.
А ведь я ничего для них не делал. Почти ничего. Чудеса им были нужны, как воздух, а я молчал, просто жил рядом. Хотел бы я действительно быть лишь одним из них и больше никем.
Я дарил им тайные обрывки, ошметки чудес — то, что можно передать незаметно, спрятать в кармане и сделать вид, что там ничего не было, вообще ничего. Это у меня получалось. До тех самых пор, пока один из них не почуял мою тайну. Это было неизбежно. У них хороший нюх, не испорченный Ящиками и многолюдным наружным дурманом. А я был неосторожен. Маленький Шакал знал, что… Македонский не такой, как все. И Слепой знал. А Волк… Это было смешно и грустно. Его я опасался меньше всех, и, нарушая свое обещание, отдавал ему больше запретных чудес. Как ядовитого скорпиона, я снимал с него то жгучее, что чувствовал, когда проводил ладонью по его позвоночнику, и, пока я доносил его до раковины, оно успевало пустить в меня яд, и ладони распухали от чужой боли, но я был счастлив. Они научили меня благодарности и любви, и ничего другого я от них не ждал. Но я был глуп. Сфинкс знал, что говорил в тот первый день. «Если хочешь остаться с нами, то никогда — слышишь? — никогда никаких чудес».