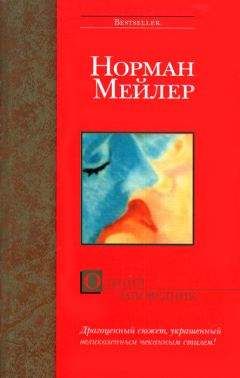Суизин».
И, вложив все в конверт, он припечатал его своим гербом — «фазан стоящий», — каковой герб он с немалыми затратами добыл себе в Департаменте Геральдики в 1850 году.
— Возьмите это, — сказал он Альфонсу, — и отправьте. И помогите мне вернуться в мое кресло.
Устроив его в кресле, Альфонс ушел. Суизин сидел, и глаза его беспокойно блуждали.
Стиль! Друзья молодости — где они? Никого больше нет! Никто сюда не заглядывает из тех, кто знавал Суизина в дни его славы, в дни, когда у мужчин был стиль, когда женщины умели быть элегантными. А теперь — не угодно ли? — на велосипедах ездят! Ну что ж, этой молодой девице дорого обошлась ее поездка и ее смех! В шесть или семь тысяч фунтов. То-то же! Хорошо смеется тот, кто смеется последним! И, утешенный сознанием, что выступил на защиту элегантности и манер и… э-э… стиля, Суизин мало-помалу успокоился: щеки его опять стали бледными, белки менее желтыми, веки наполовину прикрыли глаза, и в этих заплывших тусклых глазах даже появилось что-то вроде задумчивости. Этот треклятый восточный ветер! Надо отдохнуть, а то и аппетита к обеду не будет…
Форсайт четверкой! Да почему бы и нет? Он мог бы и четверкой ездить, если бы захотел! Сколько угодно… Четверкой… Его подбородок слегка осел. Четвер… Глаза закрылись, губы отдулись, пропуская тихое посапывание — он спал, все еще опираясь рукой на набалдашник трости.
В холл вошли двое молодых людей, очевидно, приехавших сюда на воскресенье. Оба в шляпах и высоких крахмальных воротничках, помахивая тросточками, они прошли недалеко от кресла, в котором отдыхал Суизин.
— Посмотри на этого старого щеголя, — тихо сказал один, и они приостановились, искоса оглядывая спящего.
— О! Джайлс! Да ведь это наш дядюшка Суизин!
— Ну? А и верно, он самый. Джесс, ты только посмотри — перстни, булавка! Волосы напомажены, сапожки лаковые! Все еще франтит, чудило старое. Не сдается!
— Да уж! Не хотел бы я дожить до таких лет. Пойдем, Джайлс.
— Упорный старик!
И «два Дромио», как их прозвали, двинулись дальше, покачивая тросточками, горделиво подняв свои худые голодные лица над крахмальными воротничками.
Но бледные старческие губы Суизина между седыми усиками и седым пучком на подбородке по-прежнему то надувались, то опадали, то надувались, то опадали. Он ничего не слыхал.
1
В тот день в 1914 году, когда весь мир взволновали сараевские убийства, Сомс Форсайт ехал в такси по Хэймаркету, придерживая на колене картину Якоба Мариса, только что купленную у Думетриуса. Он был доволен исходом сильно затянувшегося поединка. В последнюю минуту Думетриус вдруг пошел на его условия, чем немало удивил Сомса.
Причина такой уступчивости стала ему ясна в тот же вечер на Грин-стрит, когда он развернул вечернюю газету: «Не исключена возможность, что это трагическое происшествие потрясет до основания всю Европу. Страшные последствия, которыми чревато это убийство, буквально ошеломляют». Вот и Думетриуса они, видно, ошеломили. Сразу спасовал. Сомс отлично знал, как капризен спрос на предметы, ценность которых меняется в зависимости от душевного спокойствия людей и наплыва туристов из Америки. Страшные последствия! Он отложил газету и стал размышлять. Нет! Этот Думетриус просто паникер. Одним эрцгерцогом больше, одним меньше, — не так уж это важно, они и без того вечно попадают в газеты. Интересно, что скажет завтра по этому поводу «Таймс», но, вероятно, все окажется бурей в стакане воды. Европейские дела, надо заметить, мало интересовали Сомса. Слова «волнения на Балканах» вошли в поговорку; а если что-нибудь входит в поговорку — значит, за этим ничего нет.
«Таймс» он прочел на следующий день, когда вез своего Якоба Мариса домой в Мейплдерхем. Передовые, как водится, негодующе осуждали убийство, но во всей газете Сомс не нашел ничего, что помешало бы ему отправиться на рыбную ловлю.
И весь тот месяц, даже после австрийского ультиматума Сербии, Сомс, как и 99 процентов его соотечественников, решительно не понимал, «из-за чего подняли такую шумиху». Вообразить, что это может как-то коснуться Англии, мог только помешанный. Сомс ни разу даже не остановился на этой мысли всерьез: он был в пеленках, когда кончилась Крымская кампания, и привык считать, что Европе, пожалуй, следует иногда давать советы, но не более того. К тому же у Флёр как раз начались каникулы, и он подумывал о том, чтобы купить ей лошадку: ей скоро тринадцать лет, пора обучить ее и этому никчемному, в сущности, искусству — верховой езде. А если уж непременно нужно о чем-то беспокоиться, так разве мало беспокойства доставляет Ирландия? Первое смутное предчувствие огромной беды заронила в нем Аннет, теперь, к тридцати пяти годам, ставшая настоящей красавицей. Она не читала английских газет, но часто получала письма из Франции. 28 июля она сказала Сомсу:
— Сомс, скоро будет война — эти немцы совсем взбесились.
— Война? Из-за такого пустяка? Вздор, — проворчал Сомс.
— Ах, у тебя совсем нет воображения, Сомс. Война непременно будет, и моей бедной родине придется воевать за Россию. А вы, англичане, что будете делать?
— Делать? Да ничего, конечно. Если вы с великого ума полезете воевать, так мы-то тут при чем?
— Мы надеемся на вашу помощь, — сказала Аннет. — Но разве на англичан можно положиться? Вы всегда выжидаете, всегда смотрите, куда ветер дует.
— Какое нам до всего этого дело? — с досадой возразил Сомс.
— А вот увидишь, какое, когда немцы возьмут Кале.
— Я думал, вы, французы, считаете себя непобедимыми.
Но он встал и вышел из комнаты,
И в тот вечер даже Флёр заметила, что он не обращает на нее внимания. Всю субботу и воскресенье он не находил себе места. В воскресенье разнесся слух, что Германия объявила войну России. Сомс решил, что это газетная утка; но полночи он провел без сна, а в понедельник утром, прочтя о том же в «Таймсе», первым поездом поехал в город. День был неприсутственный, и он направился в свой клуб в Сити — единственное место, где была надежда что-нибудь узнать. Оказалось, что многие явились туда с той же целью, и среди них — один из компаньонов обслуживавшей Сомса маклерской конторы «Грин и Грининг», или, как их чаще называли, «Врин и Врининг». Сомс изложил ему свои пожелания относительно продажи кое-каких ценных бумаг. Маклер – это оказался «Врин» — искоса поглядел на него.
— Ничего не выйдет, мистер Форсайт. Биржа, говорят, несколько дней будет закрыта.
— Закрыта? — переспросил Сомс. — Вы что, хотите сказать, что они прекратят операции, даже если…
— Ничего другого не остается, иначе акции сразу слетят до нуля. И так уже начинается паника.
— Паника! — повторил Сомс, грозно глядя на маклера («Так я тебе и поверил!»). — Считайте, что не получали от меня распоряжений; ничего я не буду продавать.
Не подозревая, что выразил этими словами не только свое личное решение, он встал и отошел к окну. На улице царила тревога. Газетчики выкрикивали: «Германия предъявила ультиматум Бельгии!» Сомс смотрел вниз, разглядывал лица. Это было не в его привычках, но сейчас он поймал себя на этом занятии. Все, как сговорившись, озабоченно хмурятся. Ну и дела! Дома, на реке, все это как-то не доходило до сознания. И вдруг его потянуло взглянуть на телеграфную ленту.
Вокруг аппарата толпились какие-то незнакомые люди, и Сомс, который терпеть не мог делать то же, что и другие, а тем более дожидаться такой возможности, прошел в курительную и уселся в кресло. В клубе он бывал очень редко и теперь просто не представлял себе, как заговорить с незнакомыми ему членами, так что ему оставалось только прислушиваться к их разговорам. Но и это было достаточно тревожно. Те трое или четверо, чьи слова он мог расслышать, были, казалось, обеспокоены лишь одним: а вдруг «это чертово правительство окажется не на высоте». Сомс все сильнее напрягал слух. Никогда еще за такое короткое время он не слышал столько ругани по адресу радикалов и рабочих. Слова «изменники» и «политиканы» повторялись снова и снова, как некий рефрен. Хотя в общих чертах высказываемые мнения, пожалуй, и совпадали с его собственными, все, что было в нем сдержанного, размеренного и расчетливого, глубоко возмущалось. Они что же, воображают, что война — это увеселительная прогулка?
— Если мы сейчас не выступим, — сказал один из собеседников, — мы никогда не сможем смотреть людям в глаза.
Сомс громко фыркнул. Почему? Непонятно. Германия и Австрия против Франции и России — это пожалуйста, если уж им так хочется валять дурака. В старину в Европе всегда шла война. А теперь, когда у них такие огромные армии, удивительно еще, как они давно не сцепились. Но Англии-то какой смысл не вводить воинскую повинность и содержать большой военный флот, если этим все равно не убережешься от войны? Вот и эти краснобаи — на самом деле они ведь только и думают, что о своих дивидендах. А что это им даст? Если Англия очертя голову вступит в войну, никаких дивидендов вообще не будет. Война, а? Все существо человека, в течение шестидесяти лет принимавшего мирное состояние Англии как нечто непреложное, восставало против такой ужасающей перспективы. По какому праву русские — да если на то пошло, и французы рассчитывают, что Англия будет таскать для них каштаны из огня? Ну, а немцы? Кайзер у них фанфарон, только и знает, что бряцать саблей да бахвалиться, но все-таки их легче понять, чем русских или французов. Что касается Австрии, смешно и подумать, что с ней можно воевать.